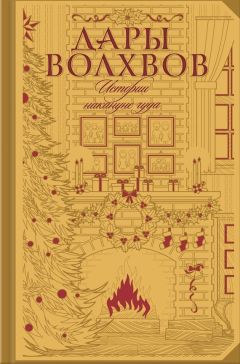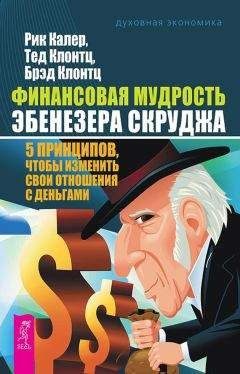– Полно брехать, – возразил краснобай. – Нашел заговенье. Черный ангел, или, по-книжному, так сказать, Ефиоп, завсегда у каждого человека за левым плечом стоит да не смигнувши сторожит, как бы натолкнуть на грех. Не слыхали вы разве, что было у Пятницы на Пустыне о прошлых Святках?
– А что такое? – вскричали многие любопытные. – Расскажи, пожалуста, Ванюша; только не умори с ужасти.
Рассказчик оглянулся на двери, на окно, на лица слушателей, крякнул протяжно, оправил правой рукой кудри и начал:
– Дело было, как у нас, на посиделках. Молодцы окручались в личины, и такие хари, что и днем глядеть – за печку спрячешься, не то чтобы ночью плясать с ними. Шубы навыворот, носищи семи пядей, рога словно у Сидоровой козы, а в зубах по углю, так и зияют. Умудрились, что петух приехал верхом на раке, а смерть с косою на коне. Петрушка-чеботарь спину представлял, так он мне все и рассказывал.
Вот как разыгрались они, словно ласточки перед погодою; одному парню лукавый, знать, и шепнул в ухо: «Семка, я украду с покойника, что в часовне лежит, саван да венец, окручусь в них, набелюся известкою, да и приду мертвецом на поселки». На худое мы не ленивы: скорей, чем сгадал, он в часовню слетал, ведь откуда, скажите на милость, отвага взялась. Чуть не до смерти перепугал он всех: старый за малого прячется… Однако ж, когда он расхохотался своим голосом да стал креститься и божиться, что он живой человек, пошел смех пуще прежнего страху. Тары да бары да сладкие разговоры, ан и полночь на дворе, надо молодцу нести назад гробовые обновки; зовет не дозовется никого в товарищи; как опала у него хмелина в голове, опустились и крылья соколиные; одному идти страх одолевает, а приятели отпираются. Покойник давно слыл колдуном, и никто не хотел, чтобы черти свернули голову на затылок – свои следы считать. Ты, дескать, брал напрокат саван, ты и отдавай его; нам что за стать в чужом пиру похмелье нести.
И вот, не прошло двух мигов… послышали, кто-то идет по скрипучему снегу… прямо к окну: стук, стук…
– С нами крестная сила! – вскричала хозяйка, устремив на окно испуганные очи. – Наше место свято! – повторила она, не могши отвратить взглядов от поразившего ее предмета. – Вон, вон, кто-то страшный глядит сюда!
Девки с криком прижались одна к другой: парни кинулись к окну, между тем как те из них, которые были поробее, с выпученными глазами и открытым ртом поглядывали в обе стороны, не зная, что делать. В самом деле, за морозными стеклами как будто мелькнуло чье-то лицо… но когда рама была отперта – на улице никого не было. Туман, врываясь в теплую избу, ходил коромыслом, затемняя на время блеск лучины. Все понемногу успокоились.
– Это вам почудилось, – сказал рассказчик, оправляясь сам от испуга; его голос был прерывен и неровен. – Да вот, дослушайте бывальщину: она уж и вся-то недолга. Когда переполошенные в избе люди осмелились да спросили: «Кто стучит?» – пришлец отвечал: «Мертвец пришел за саваном». Услышав это, молодец, окрученный в него, снял с себя гробовую пелену да венец и выкинул их за окошко. «Не принимаю! – закричал колдун, скрипя зубами. – Пускай где взял, там и отдаст мне». И саван опять очутился посреди избы. «Ты, насмехаючись, звал меня на посиделки, – сказал мертвец страшным голосом, – я здесь! Чествуй же гостя и провожай его до дому, до последнего твоего и моего дому». Все, дрожа, молились всем святым, а бедняга виноватый ни жив ни мертв сидел, дожидаясь злой гибели. Мертвец между тем ходил кругом, вопя: «Отдайте мне его, не то и всем несдобровать». Сунулся было в окошко, да, на счастье, косяки были святой водой окроплены, так что его словно огнем обдало; взвыл да назад кинулся. Вот грянул он в вороты, и дубовый запор, как соль, рассыпался… Начал всходить по съезду… Тяжко скрипели бревна под ногою оборотня; собака с визгом залезла в сенях под корыто, и все слышали, как упала рука его на щеколду. Напрасно читали ему навстречу молитву от наваждения, от призора; однако ничто не забрало… Дверь со стоном повернулась на пятах, и мертвец шасть в избу!
Дверь избы нашей, точно, отворилась при этом слове, будто кто-нибудь подслушивал, чтобы войти в это мгновение. Нельзя описать, с каким ужасом вскрикнули гости, поскакав с лавок и столпившись под образами. Многие девушки, закрыв лицо руками, упали за спины соседок, как будто избежали опасности, когда ее не видно. Глаза всех, устремленные к порогу, ждали встретить там по крайней мере остов, закутанный саваном, если не самого нечистого с рогами; и в самом деле, клубящийся в дверях морозный пар мог показаться адским серным дымом. Наконец пар расступился, и все увидели, что вошедший имел вид совершенно человеческий. Он приветливо поклонился всей беседе, хотя и не перекрестился перед иконами. То был стройный мужчина в распашной сибирке, под которою надет был бархатный камзол, такие же шаровары спускались на лаковые сапоги; цветной персидский платок два раза обвивал шею, и в руках его была бобровая шапка с козырьком, особого вида. Одним словом, костюм его доказывал, что он или приказчик, или поверенный по откупам. Лицо его было правильно, но бледно как полотно, и черные потухшие глаза стояли неподвижно.
– Бог помочь! – сказал он, кланяясь. – Прошу беседу для меня не чиниться и тебя, хозяин, обо мне не заботиться. Я завернул в вашу деревню на минутку: надо покормить иноходца на перепутье, у меня вблизи дельце есть.
Увидев меня в мундире, он раскланялся очень развязно, даже слишком развязно для своего состояния, и скромно спросил, не может ли чем послужить мне? Потом, с позволения, подсев ко мне ближе, завел речь о том и о сем, пятом и десятом. Рассказы его были очень забавны, замечания резки, шутки ядовиты; заметно было, что он терся долго между светскими людьми как посредник запрещенных забав или как их преследователь, кто знает, может быть, как блудный купеческий сын, купивший своим имением жалкую опытность, проживший с золотом здоровье и добрые нравы. Слова его отзывались какой-то насмешливостью надо всем, что люди привыкли уважать, по крайней мере, наружно. Не из ложного хвастовства и не из лицемерного смирения рассказывал он про свои порочные склонности и поступки; нет, это уже был закоснелый, холодный разврат. Злая усмешка презрения ко всему окружающему беспрестанно бродила у него на лице, и когда он наводил свои пронзающие очи на меня, невольный холод пробегал по коже.
– Не правда ли, сударь, – сказал он мне после некоторого молчания, – вы любуетесь невинностью и веселостью этих простаков, сравнивая скуку городских балов с крестьянскими посиделками? И, право, напрасно. Невинности давно уже нету в помине нигде. Горожане говорят, что она полевой цветок, крестьяне указывают на зеркальные стекла, будто она сидит за ними, в позолоченной клетке; между тем как она схоронена в староверских книгах, которым для того только верят, чтоб побранить наше время. А веселость, сударь? Я, пожалуй, оживлю вам для потехи эту обезьяну, называемую вами веселостью. Штоф сладкой водки парням, дюжину пряников молодицам и пары три аршин тесемок девушкам – вот мужицкий рай; надолго ли?
Он вышел и, вернувшись, принес все, о чем говорил, из санок. Как человек привычный к этому делу, он подсел в кружок и совершенно сельским наречием, с разными прибаутками, потчевал пряничными петушками, раздаривал самым пригоженьким ленты, пуговицы на сарафаны, сережки со стеклами и тому подобные безделки, наливал парням водку и даже уговорил некоторых молодиц прихлебнуть сладкой наливки. Беседа зашумела как улей, глаза засверкали у молодцов, вольные выражения срывались с губ, и, слушая россказни незнакомца, нашептываемые им на ухо, красные девушки смеялись и уж гораздо ласковее, хотя исподлобья поглядывали на своих соседей. Чтобы довершить суматоху, он подошел к светцу, в котором воткнутая лучина роняла огарки свои в старую сковороду, стал поправлять ее и потушил, будто не нарочно. Минут десять возился он в темноте, вздувая огонь, и в это время звуки многих нескромных поцелуев раздавались кругом между всеобщим смехом. Когда вспыхнула опять лучина, все уже скромно сидели по местам; но незнакомец лукаво показал мне на румяные щеки красавиц. Скоро оказались тлетворные следствия его присутствия. Охмелевшие крестьяне стали спорить и ссориться между собою; крестьянки завистливым глазом смотрели на подруг, которым достались лучшие безделицы. Многие парни, в порыве ревности, упрекали своих любезных, что они чересчур ласково обходились с незнакомым гостем; некоторые мужья грозили уже своим половинам, что они докажут кулаком любовь свою за их перемигивания с другими; даже ребятишки на полатях дрались за орехи.
Сложив руки на груди, стоял чудный незнакомец у стенки и с довольною, но ироническою улыбкой смотрел на следы своих проказ.
– Вот люди! – сказал он мне тихо… но в двух этих словах было многое.
Я понял, что он хотел выразить: как в городах и селах, во всех состояниях и возрастах подобны пороки людские; они равняют бедных и богатых глупостью; различны погремушки, за которыми кидаются они, но ребячество одинаково. То, по крайней мере, высказывал насмешливый взор и тон речей; так, по крайней мере, мне казалось.