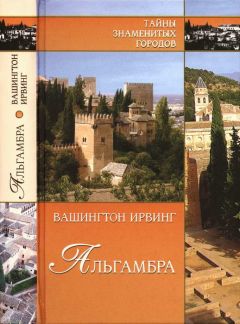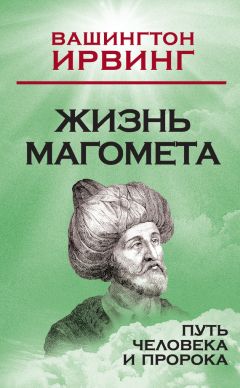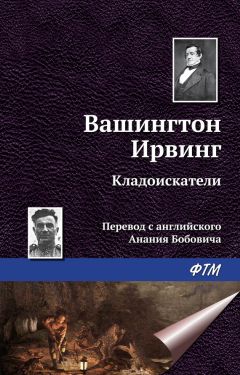Так, с музыкой и песнями, он наконец достиг цели своего неблизкого путешествия, многославной Гранады — и с восторженным изумлением узрел мавританские башни, дивную долину и снежные горы в струистой знойной выси. Не стану и описывать, как ему было любопытно войти в ворота и бродить по улицам, как у него разбегались глаза при виде восточного великолепия. Глянет ли женское личико из окошка, улыбнется ли с балкона — он уже готов был признать в незнакомке Зоранду или Зелинду; всякая статная дама, разгуливающая по Аламеде, казалась ему мавританской царевной, и впору было стелить свой студенческий плащ ей под ноги.
Беспечный нрав, в руках гитара, одежонка худая, но юн да пригож — конечно, везде ему были рады, и несколько дней он напропалую веселился в мавританской столице и ее окрестностях. Чаще всего бывал он у фонтана Авельянос в долине Дарро. Еще с мавританских времен это излюбленное место веселых сборищ гранадцев, и здесь любознательный студент во все глаза изучал женскую прелесть; на это у него всегда хватало прилежания.
Он присаживался со своей гитарой, сочинял песенку-другую на забаву щеголям и щеголихам, потом наигрывал танец, а танцевать в Андалузии все и всегда готовы. Сидя так однажды под вечер, он увидел, что к фонтану идет приходский священник и все приподнимают перед ним шляпы. Он, видно, был здесь знаменит — если не святостью, то благоутробием; плотный и румяный, он пыхтел и отдувался — от жары и от трудов праведных. Время от времени он выуживал из кармана мараведис и с особым значением подавал его нищему. «Ах, отец наш милосердный! — раздавалось кругом. — Живи и здравствуй, дай тебе бог скорей стать епископом!»
Подъем в гору давался ему нелегко, и он мягко опирался на руку служанки, должно быть, избранной овечки этого любящего пастыря. Ах, что это была за девушка! Андалузянка с головы до пят: от розы в волосах до крохотного башмачка и ажурного чулочка; андалузянка по всей стати, в каждом изгибе — сочная, наливная андалузянка! Но такая скромная! Такая робкая! С опущенным взором внимала она благочестивым речам падре, а если и кидала взгляды по сторонам, то тут же спохватывалась и потупляла очи долу.
Добрый падре благосклонно оглядел сборище, важно уселся на каменной лавке, и служанка мигом поднесла ему искристый стакан воды. Он степенно и со вкусом прихлебывал, заедая питье ноздреватым пирожным из взбитых белков, столь лакомым испанским гурманам, а возвратив стакан служанке, потрепал ее по щечке с отцовской нежностью.
— Ах, славный пастырь! — шепнул про себя студент. — Как бы пробраться в твое стадо — поближе к этой овечке!
Но такой благодати ему пока не выпало. Напрасно он пустил в ход все обаяние, пленившее стольких сельских священников и деревенских красоток. Гитара его звенела и плакала, напевы брали за душу, но тут священник был не сельский, а красотка не деревенская. Служитель Божий явно не любил музыки, а скромная девица ни разу даже глаз не подняла. Недолго они и пробыли у фонтана — добрый падре заторопился в Гранаду. Перед уходом девушка робко глянула на студента, и сердце его рванулось за нею.
Они удалились, а он начал расспросы. Падре Томас был гранадской святынею, зерцалом праведности: час в час он восставал от сна, прогуливался для аппетиту, час в час трапезовал, вкушал сиесту, играл вечерами в тресильо с любимыми дщерями церкви, час в час ужинал и удалялся на покой, дабы набраться сил на завтрашний день — точно такой же.
У него были гладкий, откормленный мул для разъездов, осанистая домоправительница, мастерица стряпать лакомые кушанья, и излюбленная овечка, которая взбивала ему на ночь подушки и приносила поутру шоколад.
Прости-прощай, веселая и беззаботная студенческая жизнь; раз только искоса глянули ясные глазки — и погиб человек. День и ночь видел он перед собой ее одну — самую скромную девушку на свете. Он отыскал особняк падре. Увы! В такой дом бродячему студенту вроде него ходу не было. Достойный падре не имел к нему никакого сочувствия; сам он не бывал Estudiante sopista[136] и не зарабатывал ужин песнями. А тот день-деньской бродил под окнами, в которых иногда мелькала служаночка, но мелькание это лишь разжигало его пыл и ничего ему не обещало. Он пел серенады под ее балконом, и однажды — о, радость! — в окне возникло что-то белое. Увы, это был лишь ночной колпак падре.
Никогда еще не было такого преданного обожателя и такой робкой девицы; бедный студент впал в отчаяние. Между тем настал канун Иванова дня, когда простой люд толпами валит из Гранады за город, весь вечер танцует и проводит ночь под солнцеворот на берегах Дарро и Хениля. Счастливы те, кому удастся омыть лицо речной водою с последним полуночным ударом соборного колокола: на миг вода становится волшебной и делает человека красавцем. Студент от нечего делать затесался в праздничную толпу и добрел с нею до узкой долины Дарро, к подножию горы, на которой высились красноватые стены Альгамбры. В полувысохшем русле реки, на прибрежных скалах и садовых террасах на горных уступах — всюду шумели пестрые компании; под виноградными лозами и раскидистыми смоквами шли танцы, звенели гитары и трещали кастаньеты.
Студент в тоске и унынии прислонился к одному из причудливо изогнутых гранатовых деревьев, растущих по обе стороны мостика над Дарро. Печально обозревая картину общего веселья, где у каждого кавалера была своя дама или, выражаясь более уместно, у всякого барана своя ярочка, он вздыхал о своей одинокой судьбе — надо же было ему плениться черными глазками такой неприступной девицы! — и роптал на свое затасканное платье, в котором нечего было и стучаться во врата надежды.
Постепенно его заинтересовал сосед, такой же одинокий. Это был воин сурового вида, с проседью в густой бороде; он стоял, как на часах, у граната напротив. Лицо его было землисто-зеленоватое; в старинном испанском доспехе, с копьем и щитом, он стоял неподвижно, как статуя. Студент немного удивился, что никто не замечает его необычного наряда; на него даже не глядели и только что не пихали локтями.
«В этом городе много всякой старины, — подумал студент, — и, наверно, к этому чудаку тоже привыкли и не удивляются».
Ему все же стало любопытно, а нрав у него был общительный, и он подошел к воину.
— Редкостный у вас доспех, приятель. Это каких же войск?
Челюсти воина растворились со скрежетом, точно двери на заржавленных петлях, и глухой голос отвечал:
— Королевская стража Фердинанда и Изабеллы.
— Санта-Мария! Да этой стражи уже лет триста и в помине нет!
— А я триста лет, как в карауле. Теперь, кажется, конец моей службы близок. Хочешь разбогатеть?
В ответ студент трепыхнул драным плащом.
— Я тебя понял. Если ты человек надежный и имеешь мужество, следуй за мной — и станешь богат.
— Не спеши, приятель; чтоб следовать за тобой, особого мужества мне не надо: у меня только и есть, — что жизнь да старая гитара, — и той и другой цена — ломаный грош. Надежный-то я надежный, но тут меня не собьешь: не введи нас во искушение. Если ради богатства надо украсть или убить, то пусть уж я лучше буду щеголять в драном плаще. Воин полыхнул на него гневным взором.
— Меч мой, — сказал он, — я вынимал из ножен только в защиту веры и трона. Я Cristiano viejo; следуй за мной и дурного не опасайся.
Студент, поколебавшись, побрел за ним. Он заметил, что на разговор их никто не обратил внимания и что воин шел сквозь толпу гуляк как бы невидимкой.
За мостом воин свернул узкой и крутою тропой мимо мавританской мельницы и акведука, вверх по ложбине, разделяющей угодья Хенералифе и Альгамбры. Последний закатный луч скользнул по красным зубцам высоко над ними, и монастырские колокола возвестили грядущее празднество. Ложбина заросла смоквами, виноградом и миртом, и небо заслоняли крепостные башни и стены. Было темно и безлюдно, и сумеречные нетопыри метались кругом. Наконец воин остановился у отдаленной разрушенной башни, когда-то, верно, охранявшей мавританский акведук. Он ударил древком копья в башенное основание. Прокатился подземный гул, и тяжкие камни разверзлись, образовав проход шириною с дверной проем.
— Входи во имя Пресвятой Троицы, — сказал воин, — и ничего не бойся.
Сердце у студента екнуло, но он перекрестился, пробубнил под нос «Аве Марию» и вошел за своим таинственным вожатым в глубокий погреб, вырубленный в скале под башней и исчерченный арабскими письменами. Воин указал на каменную скамью в стене.
— Смотри, — сказал он, — она триста лет служила мне ложем.
Ошарашенный студент попробовал отшутиться.
— Клянусь блаженством святого Антония, — сказал он, — крепко же вам спалось, ежели было не жестковато.
— Напротив, сон ни разу не смыкал мне очей: я обречен нести бессменный караул. Слушай, как это было. Я был телохранителем Фердинанда и Изабеллы, попал в плен во время мавританской вылазки, и меня заточили в этой башне. Когда готовились сдать крепость христианским государям, некий факих[137], мавританский законоучитель, соблазнил меня помочь ему укрыть в этом погребе часть сокровищ Боабдила. За это я понес кару — и поделом. Факих этот был африканский чернокнижником, и демонским ухищрением наложил на меня заклятие — я стал караульщиком сокровищ. С ним, должно быть, что-нибудь случилось, ибо он исчез навсегда, похоронив меня заживо. Протекли года и века, гора содрогалась от землетрясений, и я слышал, как камень за камнем крушило башню время, но над заколдованными стенами этого погреба не властно ни время, ни стихии.