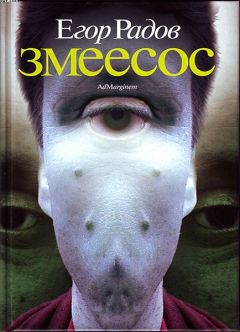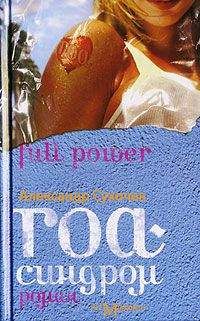— Тогда бы ты отказался, — сказала Маша.
— Не знаю, — сказал я. — Может быть, и отказался. А зря.
— Да ну это все! — сказал Маша. — Какая разница, умрешь ты или кто-то? Ведь вы люди. Допустим, тот человек выживет, но ты-то умрешь или сам лишишься ног… Не все ли равно, кто умрет? Почему ты должен спасать кого-то?
— Ну как же?.. Ничего себе!
Я даже возмутился.
— Погоди, — сказала Маша. — Иди сюда, под зонт.
Я встал под зонт и взял ее под руку.
— Нет, ты не понимаешь! Каждый человек должен, не задумываясь, жертвовать собой, это получается как будто цепочка из жертв, тогда и будет жизнь. Это, как религия.
— А если вот… Никто бы никем не жертвовал, не все ли было бы равно? — спросила Маша. — Была бы такая же жизнь. И так же бы кто-то умирал, кто-то жил… А в твоем случае кто-то должен умирать от жертв, а кто-то жить.
— Но ведь это же бесчеловечно!
Я не понимал, как она может этого не понимать, когда это и так ясно. Ее доводы были даже в чем-то логичны, у меня даже появилось сомнение, но я сразу его подавил.
— Вот если я сейчас попаду под машину, ты меня станешь спасать?
— Тебя? Может быть, если я сама не попаду под машину.
— А так все-таки станешь?
— Если я сама не попаду.
— Но ты же не знаешь, попадешь или нет.
— Тогда не знаю… Трудно сказать. Это зависит больше от чувств. А ты бы стал спасать какую-нибудь старуху из-под поезда?
— Да, конечно, — ответил я.
— Но ведь она скоро умрет!
— Ну и что? — изумился я. — Это бы я был как Раскольников…
— Нет, — сказала Маша. — Раскольников сам убил старуху, а ты-то не убивал! Ты просто не спас.
— Не все ли равно — убить или не спасти?
— Нет, — сказала Маша, улыбнувшись. — Если ты не спас, то ты просто сделал выбор между своей жизнью и жизнью старухи. Почему ты — молодой и красивый — должен умирать, а старуха жить?
— Да я вообще об этом думать не буду. Я брошусь и все…
— А может, ты убежишь подальше…
— Это уже фашизм! — сказал я Маше с чувством.
— Не знаю, — ответила она.
— А вот если бы это была не старуха? А маленькая девочка?
— Какая разница, тоже человек ведь. И ты человек.
— Но ей еще жить!
— И тебе жить.
— А если бы я был стариком? — спросил я.
— Ну… А может быть, ты ценил бы каждый свой час? Опять же: почему ты должен умирать, а не кто-нибудь? Может быть, это у него судьба такая, что он умрет.
— Судьба? Не знаю. Черт его знает! — сказал я.
Мы подошли к обшарпанному желтому дому, мокрому от дождя.
— Заходите, — сказала наша классная руководительница.
И мы вошли в темный подъезд, в котором было гулко и сыро, как в колодце, и начали подниматься по лестнице. Мой мокрый плащ с шелестом задевал за перила. Передо мной шла Маша.
«Зачем я с ней разговаривал обо всем об этом? — подумал я. — Вон она какая. Очень клевая. Лучше с ней целоваться или еще что-нибудь, и не думать обо всем об этом. Тут черт ногу сломит. Можно рассудить так, можно так. Черт его знает! Все эти разговоры ведут к каким-то дебильным ссорам, будто мы затронули что-то личное».
Мы поднимались по лестницам, я чувствовал под ногами каменные стертые ступени, и мне казалось, что я поднимаюсь в святой храм на поклонение Богу. Там, наверху, есть что-то святое. Люди всегда поклонялись тем, кто несчастнее. И все время испытывали вину перед ними. Лично я не могу смотреть на человека, у которого какой-то недостаток. Я думаю: «Почему, по какому праву я лучше его, чем я заслужил это? Завтра я могу выйти из дома и попасть под машину. И буду точно таким же. Господи, спасибо тебе, что я нормальный».
И весь наш класс замолчал, испуганно прислушиваясь к гулу своих шагов.
За окном продолжал бушевать дождь и ветер, и с деревьев ожесточенно летели листья и падали в грязь.
И мы увидели дверь в стене. Коричневую и кожаную.
— Тихо, — сказала классная руководительница. — Это ее квартира.
И она нажала кнопку звонка. Кто-то чуть засмеялся за моей спиной. Раздался мелодичный звон и все мы замерли в тревоге, будто нам сейчас явится что-то таинственное и ни на кого не похожее.
За дверью раздалось поскрипывание и защелкал ключ в замке. Легкая полоска света, как пламя свечи, осветило лестницу и прошла через мое тело.
— Здравствуйте, Ольга Степановна, — сказала классная руководительница. — Мы пришли вас навестить. Как ваше здоровье?
— Спасибо, — раздался женский голос. — Проходите.
Мы вошли в маленькую квартиру и сложили в коридоре свои мокрые плащи. Наш общий шум нарушал ее одиночество.
Ольга Степановна сидела в кресле на колесах и смущенно улыбалась. Ей было лет тридцать пять.
— Проходите, — приветливо сказала она.
Мы вошли в комнату, посреди которой стоял стол, на нем чашки и чайник.
— Садитесь, будем пить чай, — сказала Ольга Степановна.
Все замерли в нерешительности.
— Садитесь.
Наша классная руководительница развернула цветы, которые мы купили, и сказала:
— Вот, это от нас, Ольга Степановна.
— Да что вы! — засмущалась Ольга Степановна и взяла цветы.
Она была одета в джинсовое платье. В ее ушах торчали сережки. Губы были накрашены. Улыбалась она очень мило.
Все, конечно, стали смотреть, действительно ли у нее нет ног. Я подавлял в себе это жестокое любопытство, но все же посматривал на нижнюю часть кресла.
У нее действительно не было ног, не было примерно до колена. Она руками крутила большие колеса кресла и так передвигалась.
Мы сели и стали пить чай.
— Берите конфеты, — сказала она, указывая на коробку конфет.
Я сидел рядом с Машей и изучал комнату. За окном мерцал дождь, бледная лампочка освещала выцветшие занавески, скатерть, которая, как римская тога, спадала с угловатых плеч стола, сервант с посудой, стоявший в углу, и диван. У окна — маленький телевизор. За стеклом серванта стояла фотография Ольги Степановны в молодости. Аппетитная черноволосая девушка, лукаво улыбающаяся. Она была очень похожа на Машу.
— Ольга Степановна, — сказала наша классная руководительница, — расскажите, как вы могли совершить такой поступок? Ведь это же подвиг. Как вы думаете, что движет людей на подвиг?
Ольга Степановна засмущалась, перестала улыбаться и сказала:
— Не знаю… Может, это прямо в человеке… Не знаю… Может, я вам музыку заведу?
— Да вот… — осеклась классная руководительница.
— Я очень люблю старинные чарльстоны. Я раньше очень любила танцевать.
Я сидел и чувствовал себя неудобно.
Ольга Степановна подкатила к проигрывателю, который стоял на подоконнике, достала откуда-то пластинку и поставила ее. Раздался жизнерадостный мотив. «О, Джоэма…» И так далее.
— Мне это очень нравится, — сказала она. — Потанцуйте.
— Да нет, — сказала классная руководительница, — нам вообще-то пора.
И тут Ольга Степановна бросила на нее жалкий, даже оценивающий взгляд и отвернулась к окну.
— Ольга Степановна, — сказала классная руководительница, — к вам будут приходить через день наши ребята. Вот комсорг, — она показала на меня.
Ольга Степановна повернулась и посмотрела на меня в упор.
— Как тебя зовут? — почти прошептала она.
— Егор, — сказал я.
— Хорошо, Егор, приходи ко мне завтра, ладно?
— Ладно, — сказал я.
— А вы посидите еще, — сказала она нам. — Танцевать не хотите, просто посидите.
— Ну хорошо, мы никуда не уходим, мы же ваши шефы, — попыталась улыбнуться классная руководительница.
— Тимур и его команда, — сказала Ольга Степановна. — Хотите еще чаю?
— Спасибо! — раздался нестройный хор.
— У меня еще есть варенье.
И мы пили чай еще и еще. Я сидел рядом с Машей, она молчала, а я с интересом разглядывал женщину, которая совершила подвиг. Но она словно не осознавала своего поступка до конца, она выглядела, как может выглядеть любая женщина, попавшая в несчастье.