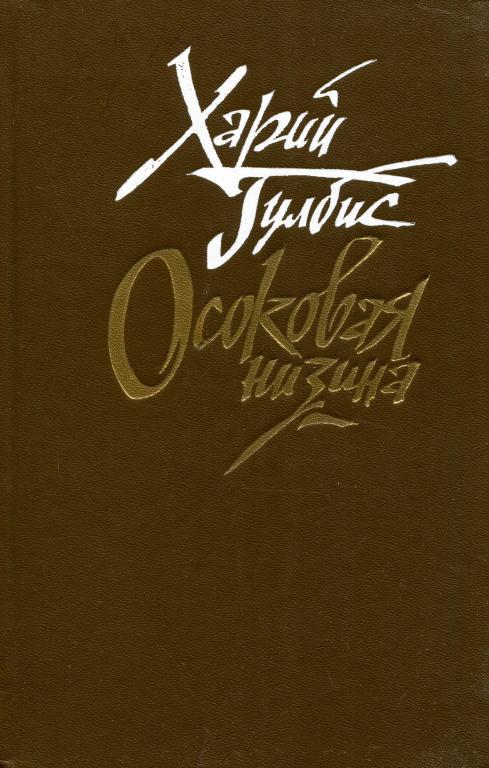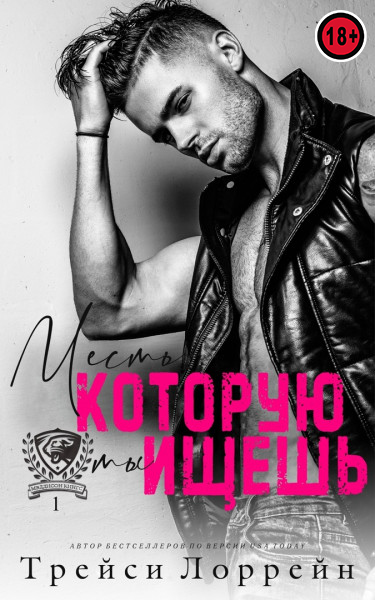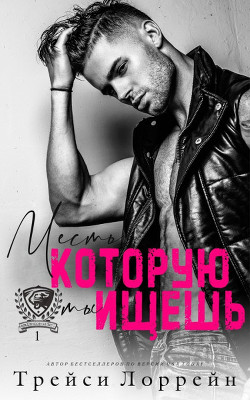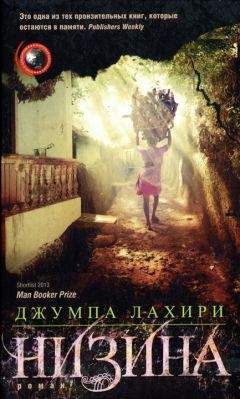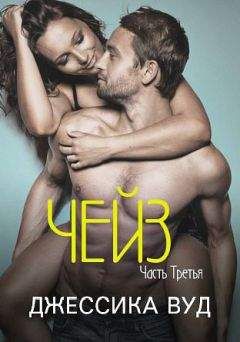Я еще не родился.
Пройдут годы, прежде чем я первым криком заявлю о себе миру.
Меня нет, но я уже начался. Я — вероятность, которая может осуществиться. Я скрываюсь в улыбке, которую молодая женщина дарит цветку, в смущенном взгляде, брошенном калеке вместе с монетой, я в едва слышном вздохе под пылающим закатным небом, я в слезе, в капле пота, мозоли, в кулаке, сжатом для удара.
Те двое, что произведут меня на свет, еще не встретились и еще никогда не виделись. Не думают друг о друге, не скучают по мне. Но те, кто их породил, уже жили общей жизнью, любили, ненавидели или были равнодушны.
Когда-нибудь, уже на закате дней, в минуту раздумий, я с удивлением открою, что, оглянувшись назад всего на пятьсот лет, я могу насчитать два миллиона предков, моих прямых родственников. И просто не поверю, что во мне замешено столько разных жизней.
Но разве я своим возникновением буду обязан одним только кровным родственникам? Разве, я не возникну также из добрых и дурных слов других людей, из их полезных и бесполезных дел, их благодушия и ненависти, властолюбия и трусости, из правды их и лжи, радости и боли. Человек живет не в пустоте. Вокруг него сотни и тысячи людей. Они тоже живут. А кто живет, тот разрушает и создает.
Что я унаследую от них, от чужих и знакомых, родных и неродных? Что они оставят мне, уйдя из этого мира?
КОРИЧНЕВЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ
Алиса крепко спала и не слышала, как прохрипели часы и раздались нежные звуки менуэта, звавшие в новый день. Не слышала, как мать тихо поднялась, оделась и вышла из комнаты.
— Вставай, детка!
А детке уже восемнадцать.
Мать успела подоить обеих коров, от нее еще пахнет хлевом. Алисе обычно давали спать до семи, хотя она охотно вставала бы вместе с остальными. Только в те дни, когда мать шла на рынок, Алису будили раньше. Тогда она должна была присматривать за домом или провожать мать до пристани, а потом разносить молоко. Когда ноша оказывалась уж очень тяжелой, отец шел сам, но сегодня ему некогда.
Алиса провела ладонью по гладкой деревяшке, отполированной ее и отцовскими плечами. Мамино коромысло чуть поменьше, но блестит больше — она пользуется им чаще других. Складные коромысла заменяют Курентисам лошадь и телегу. Когда нет груза, коромысло можно положить в корзину или сунуть под мышку. Это простое приспособление и зимой и летом помогает разносить молоко заказчикам, доставлять на рынок огурцы, помидоры или ягоды и привозить из Риги муку, отруби и даже минеральные удобрения.
Вчера Алиса собрала восемь ящичков клубники. И теперь отец на дворе, опустившись на колени, прикидывает, как лучше их связать — по две или по четыре.
Из дома вышла Эрнестина в новой белой косынке с синими горошинами.
— Нечего было столько набирать, — сказала она Алисе.
— Но ягоды совсем спелые.
Вскоре стало ясно, что складывать надо по четыре ящичка един на другой, чтобы Эрнестине было удобнее на пароходе. Алиса возьмет оба бидона с молоком и еще кружку — наливать молоко.
— Может, мне лучше все-таки самому пойти? — спросил отец.
— Да ладно, — ответила Эрнестина, берясь за коромысло.
Из дома вышел слепой дедушка Криш. Высоко вскинув голову, он легкими шажками ощупью пробирался по двору к дровяному сараю. Под мышкой — топор. Алиса вчера собрала в лесу сучьев, притащила домой, и теперь он хотел их нарубить.
— Дедуня, ты погоди, пока я вернусь! — воскликнула Алиса.
— Ничего, я как-нибудь…
— А сложу я сама, потом.
Обломанные ветром сосновые сучья, колючие и корявые, трудно сложить в поленницу, особенно человеку, ослепшему на закате лет.
Женщины подняли свои коромысла.
— Тяжело будет, — виновато сказал Густав.
Алиса старалась держать голову по-прежнему высоко, а Эрнестина сразу же поникла, как привыкшая к упряжке лошадь.
Лошади тоже бывают разные. Одни полны жизненных сил и как будто не замечают хомута. Впряжешь в плуг или повозку — они весело ржут, а пустишь в загон — резвятся. Если их погладишь, приласкаешь, ответят тем же: схватят хозяина мягкими губами за ухо или вцепятся зубами в одежду. Другие к старости тупеют. Равнодушно отшагают за день положенное, а лишь передышка, прикроют глаза и дремлют.
Третьи пугливы, упрямы, подозрительны. Чтобы не сорвались, не сбежали, их надо крепко привязывать. Могут укусить, лягнуть, и упаси бог, чтобы вожжа попала под хвост, особенно кобылам.
А есть лошади, которые ни к чему не проявляют интереса. Подойдешь к такой животине, тронешь худую, искусанную мухами шею — никакой реакции, полное безразличие.
Эрнестина не похожа ни на рыночную торговку, ни на обычную окраинную жительницу, которая носит ленивым и спесивым, но глуповатым горожанам добытое тяжелым трудом на клочке земли. Она аккуратно и даже со вкусом одета, хотя ничего дорогого или модного у нее нет. Ни высокий лоб, ни тонкие, всегда сомкнутые губы не предполагают примитивную житейскую хватку, и, когда Эрнестина обращается к покупателю, ее лицо не расплывается в искательную улыбку, в глазах не загораются жадные огоньки. В ее спокойном взгляде нет ни лукавства, ни трусости, ни тупой апатии, скорее — независимое достоинство и еще, наверно, глубоко скрытая грусть. Эрнестина по сути дела не рыночная торговка, она и не думает торчать возле своей клубники далеко за полдень и угодливо предлагать свой товар всякому прохожему. Сочные, крупные ягоды она отдаст перекупщику, спекулянту, пускай торгует, пускай ловчит. У Эрнестины нет на это ни времени, ни желания.
Алиса еще не утратила