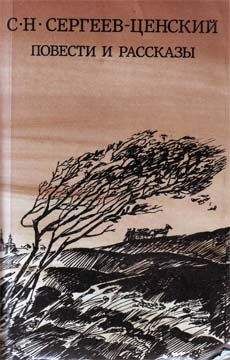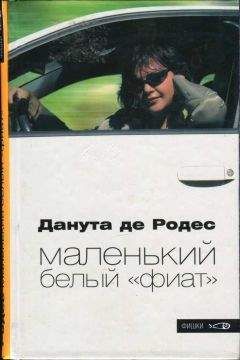Акиму же она прокричала, поднявшись:
— Иди себе.
— Чого? — потянулся Аким.
— Ни-че-го не дам… Иди! — прокричала она ему в ухо.
Аким понял. Он сказал вяло:
— А что ж… И не треба…
Поглядел себе в ноги и увидел, что до его ног уже досягает размашистая бабья тряпка. Тогда он с усилием выставил за порог одну и потом, держась за косяк, другую ногу.
Анна Ивановна пожала толстыми плечами. Глаза у нее были немного раскосые, лицо плоское. По этому лицу прошла брезгливая складка, остановившись в раскосых глазах, но она крикнула вдруг:
— Постой уж.
— Чо-го?
Она взяла из аптечного желтого шкафа пакетик с тремя доверовскими порошками и сунула ему в руки:
— На… И уходи.
Аким смотрел на порошки в своей руке, усиленно шевеля губами и двигая левой бровью. Он вспоминал, что ему приказал сын насчет этих порошков — куда должен он был их спрятать. И, наконец, вспомнив, он поднял полу синей нанковой свитки и деревянно опустил пакетик в глубокий карман шаровар.
И вот именно теперь, когда то, за чем его посылали из дому, было сделано, последняя, предсмертная скука начала вновь и уже вплотную овладевать Акимом. Он понимал, что надо идти домой, но вместо этого он опустился на скамеечку у входной двери, одну из трех скамеек, устроенных для ожидающих приема под навесом. Здесь была тень, но он выбрал место солнечное, нагретое и отсюда смотрел долго и тупо на двор, на котором в куче мусора копались, дергая ножками, три цыпленка — два белых и рыжий.
Он видел сначала правильно трех цыплят, но чем больше, захлестнутый скукой, смотрел на них, тем больше почему-то их казалось: они двоились, троились, разбегались во все стороны, и он тряс головой и протирал глаза, чтобы увидеть только трех — двух беленьких и рыжего; на момент ему удавалось это, потом опять они разбивались в целое стадо цыплят: все перед глазами было молочно-белое с рыжим, как кипяченое молоко с пенкой. И уж убежали куда-то цыплята, а ему долго еще казалось только это.
Баба вышла с тряпкой протереть и скамейки и крикнула ему:
— Уснешь еще тут… Чего сел?.. Домой иди.
Последнее слово он расслышал: он его слышал уже несколько раз сегодня, но поднялся он с большим трудом, а еще труднее было понять, зачем это ему подниматься и куда-то еще идти.
Посередине двора стояло какое-то дерево, и от него падала на двор густая синяя тень, но Акиму не нужно было, какое это дерево, и он смотрел на него и не видел, не пытался разглядеть, какое, хотя такое же точно дерево — белая акация — стояло и перед его хатой.
Та цепкая связь между предметами, которая длительно и с трудом воспринимается маленькими детьми, чтобы остаться потом более или менее неизменною на всю жизнь, она расшаталась в умирающем мозгу Акима, выпали те и другие звенья, и когда ноги его снова деревянно задвигались к ограде и калитке в ней, он с минуту смотрел на раскрытую калитку эту и на ограду из колючей проволоки, не видя разницы между просветами, идущими в калитке сверху вниз, и просветами, идущими слева направо…
Он даже поднял свою палку и прикоснулся к столбу в калитке и еще раз несколько повыше ее поднял, чтобы потрогать колючую проволоку и сообразить, что же это такое, хотя он видел ее довольно ясно: он просто забыл, что это такое и зачем оно.
Когда в самой калитке начал бить его кашель, он вспомнил, что фельдшерица дала ему порошок, и он одну руку, с палкой, прижал к своей сильно ушедшей назад груди, а другую засунул в карман шаровар, нашарил там пакетик, данный от кашля, и зажал его крепко в руке, пока не прокашлялся. Потом он осмотрелся еще слезящимися от натуги глазами и задвигался по белому шоссе, но совсем не в сторону своей деревни, хотя и был уверен, что идет он именно туда, к своей хате, чтобы там лечь в углу на лавке, как лежал он сегодня, и лежать уж, не подымаясь, так долго, как будет нужно. Про порошки, которые нужно было выпить придя, он забыл.
Он двигался забывчиво прямо посередине шоссе, теперь как раз пустого. Слева от него, мягко и кругло и довольно близко здесь подошедшие к шоссе, подымались увалы, а равнина расстилалась вправо, ниже шоссе. Там же поблескивали кое-где речка, узенькая, местами даже совсем почти пересохшая, но широкая долина между этими увалами — слева, и другими, дальними, справа, — казалась старинным руслом когда-то здесь плавно катившейся большой реки, рожденной горами.
По жалкой речонке этой разлеглись с той и другой стороны капустные огороды, обнесенные плетнями, а по правой обочине шоссе росли жиденькие кусты, а сквозь них кое-где просвечивал крутой скат вниз. На одном из дальних холмов вправо примостился недавний и потому броский для глаз, как все новое, особенно своею красной кирпичной трубой, цементный заводик, а глубже в долине виднелся белый высокий дом в саду, бывшее имение одного богатого караима, теперь — совхоз.
Аким, деревянно двигаясь, ничего этого не замечал: он даже и не смотрел по сторонам, — он смотрел только себе в ноги, иногда отталкиваясь палкой, будто тыча в мелкое дно; угасающего внимания его хватало только на это; в том же, что идет он именно домой, он не сомневался.
Скоро опять начал трясти его затяжной кашель, и опять он долго мотал в стороны головою и хватался за порошки деревянными холодными пальцами, а когда справился кое-как с кашлем, то, качаясь, пошел вперед еще упрямее и ходче, чтобы как можно скорее дойти и лечь… Показать порошки сыну и снохе, что вот сходил, принес, справил это свое последнее дело, — и лечь, чтобы уж больше не подниматься…
Два троечника показались один за другим из-за поворота шоссе прямо против Акима, и старик поднял брови и пригляделся к ним. Трудно было понять, чем это тяжелым были нагружены длинные дилижаны, но Аким, как сквозь сетку, различил, что лошади, серые и вороные, шли с натугой, медленно ставя пудовые копыта. Потом по желтому, длинному, длиннее дилижанов, Аким догадался, что везут новый лес, доски, вершковые доски девятиаршинки, — вот почему качается желтое сзади дилижанов, как хвосты. И, чтобы хвосты эти его не задели, Аким с середины шоссе подвинулся в сторону, подался немного вправо, так как дилижаны двигались по левой от него стороне.
Большой, серый с лысиной на лбу пристяжной конь первой тройки кивал ему головою при каждом шаге. Если бы Аким мог слышать, он услыхал бы, как он гремит бубенцами уздечки, отбиваясь от овода. От лошадей пахло рабочим потом, от нового леса — разогретой сосной. Аким начал было думать, откуда это везут лес и почему везут его не из города, как обычно возили, а в город. Но тяжело было думать над этим в то время, когда думали ноги над тем, куда им стать.
А в это время сзади него, стремительно нагоняя, несся двужильный фиат, развивший здесь высшую скорость, и Василий Юрковский давал отрывистые, резкие сигналы.
Сигналы эти он давал какому-то там впереди согнутому старику в синем, с палкой, с седыми кудерьками, завившимися на облезлый картуз.
Старик этот должен был проворно отскочить с дороги в сторону кустов или прижаться влево к одному из дилижанов с лесом — так рассчитана была шофером согласованность общих движений на этом белом стремительном шоссе, чтобы ни на одну йоту не убавляла ход машина, которая не больше, как через двадцать пять минут, должна покрыть в его руках в общем 14 тысяч километров. Старик с палкой сейчас мотнет седой бородою и отскочит вправо, в кусты, — машина проходит дальше полным ходом, а там, за поворотом, видно, какое шоссе белое, ровное и пустое, так что с тою же предельной скоростью можно прийти в город даже раньше, за двадцать минут.
Сигналы резки, отрывисты, гулки… Они даются Акиму, но Аким их не слышит. Он упорно глядит себе под ноги, зная, что рядом с ним, слева, катятся огромные, прочнейшие колеса, и вдавливаются в асфальт шоссе пудовые, с косматыми щетками над ними копыта медленных лошадей. Колеса выкрашены ярью и блестят выбеленными о камень толстыми, железными шинами, от лошадей пахнет здоровым потом…
Человеческая мысль должна опередить даже полный ход фиата… Если тот, кто мешает ходу, не свернет, он будет раздавлен. Но мгновенья отсчитываются неумолимо, и в то мгновенье, как левая рука шофера тянется к тормозу, сверкает мысль, что затормозить он уже не успеет, поздно, и правая рука повернула колесо, чтобы объехать этого проклятого старика, а вправо — кусты.
Шофер должен чувствовать ширину своей машины острее, тоньше, чем ширину своих плеч: плечи можно развернуть и сузить — машина не сожмется.
Юрковский точно, на глаз, рассчитал, как ему провести машину, чтобы, нажав на кусты, не задеть явно глухого старика с палкой, но в следующее мгновенье почувствовал руки свои на руле охваченными чужими руками, и перед глазами синяя блуза горняка слилась с синим впереди стариком.
Это один только момент, — он тут же подпрыгнул на месте, потому что подпрыгнула машина, сбив с ног старика и проехав по его телу, а через секунду машина была уже за три десятка метров.