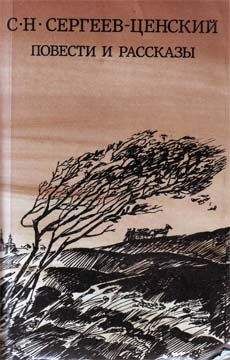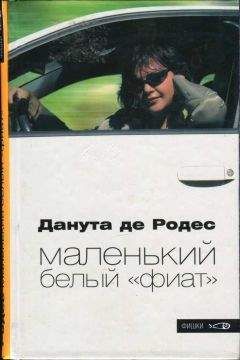— У «вас», — это где же?
— У нас — это в Воронежской губернии.
— А-а, так вы воронежская, — а я пермяк. Дубов у нас не водится. Но лес вообще я очень люблю. И мне кажется… Мне кажется, что…
Тут Мартынов почему-то слишком сильно задышал и запнулся.
— Что вам такое кажется страшное? — удивилась она и оглянулась кругом.
— Мне кажется, что… и в Москве, например, вы могли бы быть врачом, а?
— Ес-ли в э-той Моск-ве есть боль-ни-цы, то от-че-го же, — шаловливо протянула она и очень весело засмеялась.
— Нет, я к тому это говорю, что вы, может быть, чем-нибудь… связаны там у себя… в Рязанщине?
— То есть? Чем же именно? Договором?
Она стояла на камне, только что снова окунув руки в воду. С мокрых, ярких, ловких, загорелых рук ее скатывались в ручей светлые капли.
Она была похожа на молодую прачку на мостках какой-нибудь бойкой реки, на такую, которой нипочем было притащить туда гору тяжелого мытого белья на коромысле, которая только что отполоскала эту гору, и сложила рядом, и придавила голым коленом, и готовится звонко шлепать его вальком, а пока зубоскалит с проезжающими мимо на лодках парнями.
Мартынов погладил себя раза три сверху вниз по левой стороне полутораметровой груди, с усилием раскусил зубами застрявший во рту очень плотный горнолесной воздух и сказал:
— Нет, я ведь не о договоре… Я ведь о вашем муже говорю.
— О му-же… О каком таком муже, несчастный вы… Кто вам сказал, что я замужем? — и она откинула голову, хохоча.
— Как так? Совсем не были замужем? — изумился Мартынов.
— Ну вот! Из одной крайности в другую… Разве я урод? Или давала обет безбрачия, как в старину какие-то там весталки?
— Неужели вы… совершенно свободны? — даже как будто испугался Мартынов, — Тогда бы я считал себя всю жизнь полнейшим ослом…
Она так широкоглазо на него поглядела, что комок воздуха опять застрял у него во рту.
— «Если бы»? Ну, говорите же… «Полнейшим ослом, если бы», — торопила его она, готовая снова расхохотаться.
— Я — пловец, я — рекордсмен… Но вот переплыть такое расстояние от меня до вас…
Тут Мартынов начал усиленно смотреть на отражение ее ног в ручье и тыльной стороной левой руки снова потер себе грудь.
Галина Игнатьевна еще шире сделала глаза и сказала размеренно:
— Насколько я поняла вас, вы хотите мне сделать какое-то очень для меня лестное предложение и никак не решаетесь меня осчастливить… Вы хотите, кажется, похлопотать о месте для меня в одной из московских больниц. И полагаете, что я откажусь?
И так как Мартынов все еще никак не мог справиться с охватившим его волнением, она спросила вдруг:
— Это какой такой куст за вами?.. Вон тот, зеленые ягоды, — не знаете?
Мартынов быстро повернулся, пощупал ягоды, висевшие густыми гроздьями, и ответил без запинки:
— Это — черная бузина. У нас, на севере, — красная, здесь — черная.
— Ага, да! Она, кажется, куда-то употребляется в медицине. Но я уж начинаю забывать фармакопею… Не помню, куда именно.
— А вот примула, — дотронулся до чего-то Мартынов носком ботинка. — Цветов, конечно, уж нет, только листья. Кажется, это средство от одной из болезней, вами же недавно названной, — от экземы.
— А вы с тех пор, как я упомянула эту скверную болезнь, все о ней думали и вспоминали средства? Это очень, очень мило, но едва ли примула помогает при экземе. Это — довольно упорная болезнь, и если вы ее захватите… — тут она сделала рукою безнадежный жест и добавила: — А вы где же именно живете в Москве?
— Я? В Большом Кисловском переулке, недалеко от Тверской.
— Знаю такой переулок.
— Неужели знаете? Вот видите, как хорошо! Это почти в центре города, — очень оживился Мартынов. — Недалеко главный почтамт. То есть, просто вы проходите еще только один переулок и тут же, на углу его и Тверской, — почтамт.
— Откуда можно посылать кому угодно, сколько угодно писем…
— Вот видите, вы все шутите… Нет, я думаю, что простуда все-таки бывает.
— Не понимаю, какое отношение имеет простуда к московскому почтамту?
— Я не договорил. Я хотел сказать: и вы бы не рисковали.
— А-а, вы так! Рацеи мне читать?!
Она нагнулась, зачерпнула обеими руками воды и плеснула в Мартынова:
— Вот же вам за это!
Это была такая естественная вставка в разговор, какой затевают иногда молодые, здоровые, сильные прачки с мостков, когда парни проезжают мимо, нарочно задерживая веслами лодки. Они будут потом брызгать веслами в прачек, но те и без того мокры с головы до ног, и что им эти новые брызги? Зато над рекою веселый хохот и визг, и переплескивает вместе с яркими брызгами туда и сюда оплотневшее солнечное тепло.
Мартынов даже и не попятился. Его дорожная белая блуза покрылась мокрыми пятнами, а он смотрел на голые, сильные руки Галины Игнатьевны и на ее черные, буйные волосы, стремившиеся упасть вперед и закрыть ей лицо, на ее простое, серенькое, мелкими клеточками платье, с красной на груди прошивкой, и улыбался.
— А ваша чахотка, позвольте! Как же ваша чахотка? — вдруг выпрямилась Галина Игнатьевна.
— Ну, какая же у меня чахотка! Че-пу-ха! — широко заулыбался Мартынов.
— Это я говорила «чепуха», а вы говорили: «Факт!» Это вы у меня «чепуху» украли… Признайтесь, вы — правонарушитель.
Назад к машине они шли — она легким шагом, подбористой, совсем юной, отпрянувшей от земли, невесомой; он — как будто еще более покрупневший, осанистый и торжественный.
Они шли молча, и только за несколько шагов до машины она задержалась на шаг и спросила несколько неожиданно для него:
— У вас там, на Большом Кисловском, какая же именно квартира? Сколько комнат и прочее? Какой этаж?
— У меня там вот таким образом, — для чего-то энергично и глубоко провел он по сыроватой земле черту толстым каблуком ботинка, но тут же догадливо выхватил из кармана записную книжку с тонким ярко-желтым карандашиком и принялся размашисто чертить план своей квартиры, пока не сломал карандаша слишком неосторожным нажимом.
Он был очень оживлен, даже суетлив, — он сиял.
Пропылил мимо зеленый грузовик, и шофер его, высунув голову, насмешливо крикнул шоферу фиата:
— Васюха… Юрковский… Стоишь?
— Отдыхаю, — недовольно крикнул этот шофер, рядом с которым стоял и курил горняк.
Горняк сказал:
— Это ваша фамилия — Юрковский? Знакомая фамилия… У меня был когда-то товарищ, вместе учились…
— И вот с этим, какой проехал шофер, мы тоже вместе учились на курсах, — с достоинством отозвался Юрковский. — Вместе и экзамен держали.
— Так что вы с дипломом? — чуть улыбнулся углом рта горняк.
— Само собою… Это же уметь надо, как править… И машину всю тоже знать… Другие сколько учатся этому, а ездить не могут.
Подошли к машине Митрофан с Дуней; он — впереди, она, одергивая несколько помятое платье, на шаг сзади.
— Долго копаешься, — бросил с подходу Митрофан шоферу. — Дюжину ребят можно зародить, пока ты тут справился.
— Дюжину? — Юрковский добросовестно подумал, покрутил головой и сказал: — Дюжину все-таки вряд ли, — велика нагрузка.
Он привернул до отказа гайку колеса, уложил в ящик ключ, вытер тряпочкой руки, оглядел своих пассажиров и нажал грушу.
— Чего зря сигналить, когда все… Двое ведь вперед пошли, — напомнил ему, садясь, горняк.
Пристально поглядев на горняка, Галина Игнатьевна повела плечами и прошептала Мартынову:
— Какой неприятный человек — этот, в синей блузе… Знаете, у него глаза убийцы.
— Да-а, — неопределенно протянул Мартынов, помогая ей сесть, — действительно, что-то такое есть…
— Прощай, лес дубовый, прощай! — помахала кистью руки Галина Игнатьевна в ту сторону, где они только что были.
А Брагина, когда они немного отошли от фиата, говорила Торопову:
— Да, это теперь вырисовывается определенно: еще десять лет, и у нас будет та же Америка, только без Евангелия, без Морганов, без обезьяньих процессов… Нравы, конечно, тоже будут мягче, а то, знаете ли, не так давно одну мою хорошую знакомую, артистку, столкнул какой-то парень с трамвая, когда выходил, — она упала на мостовую, сломала себе головку бедренной кости, шесть месяцев в больнице провела, теперь хромает, а у нее большая семья, дочь замужнюю кормит, двух внучат… Мелочи быта, которые, конечно, скоро исчезнут… Я вам говорила уже о рабкорах театральных… Есть замечательные. Как разбираются в вопросах искусства, конечно, нужного для масс, организующего массы… Разумеется, попадаются и бузотеры, без них не обойдешься… Такой приходит и бубнит: «Я потому ничего не делаю, что у нас руководство плохое, а будь бы хорошее, я бы делал…» Но ведь таких единицы. А масса относится к делу очень горячо, очень честно. И она умна. И она талантлива. Можете мне поверить: я и сама и умна и талантлива.