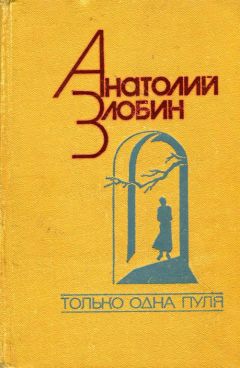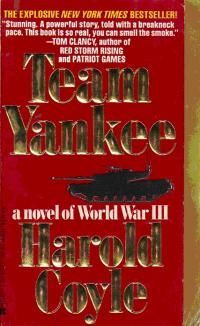— Ты чересчур поспешно его осуждаешь. Он весьма симпатичный и поступил благородно. Он же не мог знать того, что случилось.
Маргарита Александровна не успела ответить: раздался звонок от дверей.
— Наверное, это Вера Федоровна, — быстро сказала Нина. — Я говорила ей, что ты сегодня выписываешься, но у нее как раз смена. Сиди, сиди, я открою.
Маргарита Александровна равнодушной рукой отбросила записку. Было слышно, как хлопнула входная дверь, послышался осторожный стук. Она машинально ответила.
Дверь отворилась. Сначала в комнату просунулся грубый, истерзанный пространством чемодан, а следом за ним и его начинающий тучнеть владелец.
— Не ждали? — сказал Павел Борисович. — Горячий привет из солнечной Ферганы. Не хотите ли дыньки?
— А как его убило, пулей или бомбой?
— Пулей, сынок, обыкновенной пулей. Весной капитан приезжал оттуда, рассказывал обстоятельства.
— Если пулей, то, интересно, какого калибра? И сразу или не сразу? Я этого капитана видел, дверь ему открывал… Жалко, не удалось поговорить как следует: страшно ли на войне, когда убивают?
— Он ведь живой, не знает того.
— Интересно все-таки было спросить: какой калибр всего страшнее?
— Мертвому-то все равно, сынок.. Мертвый уже ничего не скажет, а за него спросится.
— Я знаю, страшнее всего атомная бомба, которую сбросили на Хиросиму. От нее уж никуда не денешься, такой огонь.
— На войне всякая смерть огнеродная.
— А такой вопрос, тетя Вера, вы не знаете? Дядя Володя убил хоть одного немца на войне? Он вам не сообщал?
— Нет, Вовочка, не скажу. Кто ж о таких вещах про себя писать решится? Посмотри на буфете, который час теперь?
— Я посчитал, тетя Вера. Если бы каждый красноармеец убил хотя бы по одному немцу, то войны давно бы не было.
— Война кончилась, Вовочка, зачем теперь считаться. Немцам сейчас тоже, верно, несладко, пусть и живые. Посмотри там, сколько уже времени. Что-то у меня глаза нынче устали.
— Жалко, что я не успел подрасти. Хотел бежать на фронт сыном полка, да Петька не согласился на пару.
Тут самое время сделать небольшую паузу, чтобы вспомнить случай на тему «не успел подрасти». Давно я порывался рассказать об этом эпизоде, да все не находилось повода и места. А случай был чрезвычайный. И он тотчас вспомнился мне, едва одиннадцатилетний Вова, дитя войны и в то же время сирота ее, произнес свои разнесчастные слова.
Итак, произошло это той же осенью сорок пятого года в Москве, на территории Литературного института имени А. М. Горького, куда мы, тогдашние студенты, съехались после войны со всех фронтов и даже из тыла. Нывшие мои однокашники, которые сейчас чуть не в полном составе плодотворно трудятся в современной литературе, не дадут мне соврать, что данный случай действительно имел место осенью сорок пятого в Литинституте.
На переменках или после занятий мы дружно сходились в закутке возле курилки и читали гениальные (иначе мы их не числили) стихи собственного производства. На эти чтения прибегали к нам молодые студенты смежных вузов, главным образом с филфака. Очередь чтения соблюдалась строго — по старшинству званий: все мы ходили тогда в кителях и еще не отлучились от армейской субординации (это уж потом иные пошли ранги). Но вот однажды вперед выскочил нестриженый юнец Алик с какого-то там «фака», который не был даже рядовым. Тем не менее он стал в соответствующую позу и произнес соответствующим голосом:
— Сегодня ночью написал гениальное… из одной строки.
И так как никто не успел остановить его, он прочитал с тем же упоением:
Я не видел воины — повторите!
Дальнейшее произошло само собой. Не успел восклицательный знак, замыкающий стих, замереть в воздухе, как чья-то шинель уже оказалась на голове Алика. Не сговариваясь, мы в тот же миг окружили его и устроили темную. Алик бултыхался, взвизгивал — куда там.
— За что, ребята, за что? — слышалось из-под шинели, потом и этот наивный возглас иссяк. Прозвенел звонок на лекцию, и мы оставили Алика на полу, вздрагивающего и униженного в своей гениальности.
Мы были патриотами и писали про войну героические поэмы и стихи, а кто-то из нас даже сотворил следующую гениальную строку: «Меня убьют на подступах к Нью-Йорку».
За это темной не устраивали.
И вот мы снова в комнате, в которой уже побывал однажды Иван Сухарев (где-то он теперь?), а сейчас мирно беседуют Вера Федоровна Коркина и ее сосед Вова Минаев. За окном стемнело, однако шторы не опущены, сквозь запотевшие стекла видны тусклые огни Москвы. Вере Федоровне больно и сладостно вести разговоры о погибшем сыне, хотя после таких разговоров кружится голова и слабеют ноги, но скоро придет пора, когда можно будет встать и позвонить Риточке. В этом теперь цель ее жизни: слышать голос несбывшейся невестки, заботиться о ней, давать советы и, разумеется, вспоминать. Вера Федоровна приходит с работы около четырех, а Рита возвращается из института после шести и эти два с половиной часа являются самыми пустыми в жизни Веры Федоровны. Полчаса, а если повезет, даже час ей удается израсходовать на скудные тогдашние магазины и столь же скудную готовку, потом наступает пустота ожидания. Но сколько раз уже бывало, что она не могла дотерпеть, спешила к телефону и, с трудом набрав в сумраке коридора нужный номер, натыкалась на вежливо-жестокосердный ответ.
Так и нынче вышло. Ей зачуялось, что Риточка вернулась, и Вера Федоровна не выдержала. Уже по долгим гудкам она поняла, что ошиблась, но не было сил положить трубку и переждать.
Наконец там щелкнуло.
— Маргариты Александровны нет дома, — ответил тот самый жестокосердный голос.
— Здравствуйте, Павел Борисович, — униженно сказала Вера Федоровна. — Неужели ее еще нет? Передайте, пожалуйста, Риточке, что я звонила. Пусть она перезвонит мне, скажите ей.
— Разумеется, Вера Федоровна, передам. Надеюсь, ничего чрезвычайного? Хорошо, что вы позвонили мне сегодня. Я давно намеревался спросить у вас, Вера Федоровна: не кажется ли вам, что в последнее время Маргарита стала более задумчивой, может быть, даже печальной?
Вера Федоровна давно была готова к подобному вопросу и знала, что это лишь присказочка. Поэтому отвечала как можно бодрее:
— Что вы, Павел Борисович? Мне вовсе наоборот кажется, за последние недели Риточка стала энергичнее, веселее, с увлечением работает над рефератом…
Он тут же перебил:
— Уверяю вас, Вера Федоровна, вы ошибаетесь. У вас, естественно, нет такой возможности наблюдать Маргариту, как у меня. И я вижу ее печаль и даже тоску, особенно по вечерам. Вы, вне всякого сомнения, понимаете, что пребывание в таких заведениях не может пройти бесследно. И я прямо хотел сказать вам… Поверьте, я ничего не могу иметь и не имею против вас, я понимаю горечь ваших утрат и глубоко сочувствую им, но речь в данном случае идет о здоровье моей супруги, я обязан стоять на страже… И я пришел к твердому убеждению, что она становится особенно подавленной, поймите меня правильно, я повторяю, после разговоров и встреч с вами. Не может быть иного мнения, именно эти разговоры травмируют ее, поймите меня, а вместе с тем и ее… Она должна забыть о том, что случилось.
— Но воспоминания-то сахарны, — отозвалась Вера Федоровна с замиранием в сердце, заслышав звонок над входной дверью и поняв, что это к ней.
— Не говорите так, Вера Федоровна, — снова перебил он, но она уже слушала вполуха: звонки продолжались, дошли до пяти и остановились. Щелкнул замок, открываемый соседкой.
— Хорошо, Павел Борисович, — сказала Вера Федоровна, напряженно вглядываясь вдоль коридора, — я подумаю над вашими словами…
Из темноты коридора показалась Маргарита Александровна, свежая после улицы, высокая и тонкая от длинного темного пальто, глаза сверкают голодной тоской ожидания — вот какими они теперь стали, эти глаза, Вера Федоровна приложила палец к губам, давая знак.
— С ним? — Маргарита Александровна остановилась, нетерпеливо скривив губы и наблюдая, как Вера Федоровна закругляется и кладет трубку. — Я сейчас не стану ему звонить.
Они расцеловались, сойдясь на проходе. Обе счастливо возбуждены ожиданием встречи, которое наконец-то сбылось.
— У нас языкознания не было, — поспешно говорила Маргарита Александровна, двигаясь первой по коридору. — Забежала в магазин, отоварилась на мясо и жиры, селедку удалось достать, сейчас ее почищу…
Суматошно и радостно перебивая друг друга, помогая и мешая, натыкаясь руками на руки, обмениваясь взглядами и даже перемигиваясь, суетясь между столом и буфетом, они творили свой немудреный предстоящий пир. Наконец Вера Федоровна торжественно наполнила чарки: их было четыре.