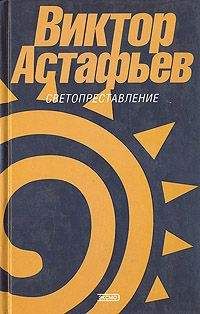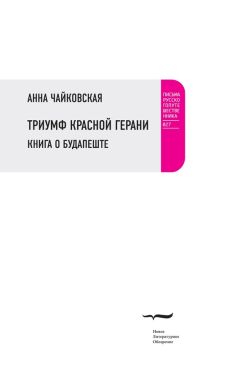Счастливые сымские дни, вечера возле стана и ночи, незабвенные ночи, когда в охотничью избушку набьется, бывало, народу — «до крыши»! Отужинает народ сообща, похлебает ушки, выпив перед нею из кружки, и, усталый, разморенный, уляжется на ночь. Лампа погашена, в железной печурке догорает огонь, мелькает из полуприкрытой дверки ярко-красными бликами; народ, разговорившийся за столом, чаю крепкого напившийся, засыпает не вдруг, продолжает разговоры разговаривать, да все про ту же тайгу, про походы по ней, про охоту, про рыбалку. Ах ты, Боже мой! Чего тут только не услышишь, про какие чудеса и таежные страсти, про редкие явления природы, про зверей, про избавления от немощей, про птиц и собак не узнаешь. До того иной раз «лесной информацией» напитаешься, что ночью с криком подскочишь.
Уж звезды в небесной глубине успокоенно мерцают, уж ночная птица за избушкой отухала, уж туманы речку запеленали так, что белой, вилючей жилою прочертила она темную тайгу, близко прошел зверь, отыскивая пару, и собаки, с лаем бросившиеся в ночью заполненный лес, вернулись к крыльцу, свернулись возле входа, изредка взлаивая во сне. А в избушке все течет беседа, люди, дружеством таежным спаянные, понятной, близкой сердцу красотой природы, ночным покоем утихомиренные, раза три-четыре в печку подбросят сухих дров, еще и еще в кружки чайку нальют, пока, наконец, не огласит тесное пристанище дружный мужицкий храп.
Бывало, приплывут по реке и ночуют в избушке охотники с лицензией на лося, с разрешением на медведя. Я всегда просил моего знакомого охотника уговорить людей — отвезти меня в деревню или не бить при мне зверя. Я знаю бывших фронтовиков, которые не могут видеть ничего красного, даже революционных полотен, не могут глядеть на сырое мясо. И я не то что боюсь, но нутром болею при виде большой крови, меня начинает тошнить, все во мне вроде как переворачивается «вверх дном».
Мой приятель-охотник, великолепный знаток природы, рассказчик, каких поискать, понял меня: «В лодке кровь, шерсть, голова отрубленная, выпуклыми глазами смотрит, а в них сполох выстрела и тоска смертная…»
Ни разу, ни при каких обстоятельствах, даже нуждой, голодом и жизнью давимый, не выстрелил я в зверя, не пролил большой крови и фронтовикам не советовал проливать. Увы, были и такие, что не послушались меня, и, как правило, кончали они, над суеверием моим насмехавшиеся, плохо. Охотник-промысловик, добывающий зверя на прокорм себе и семье, собакам, — это совсем другое дело, это его работа, он — добытчик, он этим живет, этим кормится.
Вот снова наступили тяжкие времена на Руси, сбежавшиеся в город из бесправных, обнищавших деревень, русские крестьяне, получив маломальскую, плохо оплачиваемую профессию, покорно, безропотно стояли у станков, но большей частью у конвейеров, и терпеливо ждали квартиру, блага всякие, пользовались услугами нашей бесплатной медицины и бесплатного обучения детей в школах и вузах. Все это — и оплата труда, и медицинское обслуживание, и блага, и развлечения — было на унизительном уровне, жилища убоги, транспорт вовсе плох, медицина, о которой представитель американской делегации, осмотрев лучший в стране онкологический центр в Челябинске, сказал: «У нас в таких больницах лечат тоже бесплатно. Негров.» — это, повторяю, в лучшем лечебном заведении страны, а в больнице Красноярского дока, что в поселке Базаиха, отказались бы лечиться и негры, но наши «негры», под названием «советские трудящиеся», лечатся, еще и рады, что койка досталась.
В деревне этому народу было так плохо, что убогая городская житуха казалась ему благом, зарплата, к которой надо прирабатывать или приворовывать или гнуть спину после рабочей смены и в выходные дни — на загородном земельном участке, — все же гарантирована, рабочее место в загазованных и немыслимо-жарких, грязных, часто и вредных цехах все же есть, квартира какая-никакая получена, ближе к пенсии — свой угол — чего еще может быть дороже и краше после того, как поболталась семья по страшным общежитиям или комнатам гостиничного типа, по чужим углам, по сгнившим клетушкам городских окраин. И уж раем, местом обетованным, желанной пристанью казалось место в городе, плавающем в грязи, в саже, в дыму, да еще в таком, как Красноярск, окруженном промышленной заразой, с незамерзающей рекой, с радиационными отходами, с озоновой дырой в небе, город, в котором и вокруг которого в радиусе двадцати километров нельзя ладить никакую огородину, да и жить в нем невозможно.
Но втянулись, жили, терпели, хотя «население» на Бадалыке (городское кладбище) увеличивалось и увеличивалось скорее, интенсивней, чем в самом городе, — здесь давно уже рождаемость по сравнению со смертностью нарушилась, думаю, только с уральским, погубленным регионом и может соперничать наш город по смертности.
Я зрительно убедился в этом. Мой родственник попал на Бадалык в числе первых новопоселенцев, на небольшой участочек — уголок возле иссыхающей, но все еще живой речки Бадалык. После похорон я ездил в один райцентр на десять дней — отдохнуть, отдышаться от тяжкого потрясения. Возвращаюсь назад и не могу узнать Бадалыка — могилы с намогильными знаками и крестами захлестнули уж не только речку, но и холмы за нею — тысячи тысяч новых могил появились — это за десять-то дней!
Сейчас Бадалык — целая кладбищенская империя, по населению, по-моему, превзошедшая население городское. Кладбище по санитарным и всяким другим нормам, в том числе и нравственным, пережило и изжило себя, его уже невозможно окинуть взором человеческим, на нем уже, на старом конце кладбища прежде всего, трудно найти родную могилу, а если найдешь ее — глядь, тут уже новый «клиент», под новой плитой поселился.
Но, повторяю, из сегодняшней действительности и та нищая бесправная жизнь русским людям, если уж быть точнее — пролетариям, кажется хорошей, райской, желанной, умиротворенной, и они готовы туда вернуться…
Вот до чего можно довести самый терпеливый, родине своей преданный и покорный народ! Говорят, рай — худое место, из него куда ни шагни, все плохо. Выходит, ад — место самое хорошее; из него куда ни ступи, везде лучше. Но во всяком движении жизни, как и у всякой медали, есть две стороны: остановились промышленные гиганты, в том числе и самые вредные, химические, — чище сделался воздух. Подорожала жизнь, люди рванулись к земле-кормилице, пока еще в странной, называемой на аристократический манер, дачной форме, но там не только папы, мамы, дедушки и бабушки и пролетарские дети, в основном — бездельники и гуляки, учатся земле, труду, узнают, что картошка, хлеб, морковка и капуста не в магазине, не на базаре, на земле растут.
Дороговизна горючего, техники, моторов, вертолетов, удобрений, энергии привела к тому, что уж не стонут воды и леса от нашествия двуногих «хозяев земли», беспощадно истребляющих леса и все в них живущее и растущее, отравляющих реки, озера и моря. Охотники и еще не разбежавшиеся деревенские и лесные люди утверждают, что за счет излома прогресса ослабилось нашествие людей на природу, больше стало в реках и морях рыбы, в лесах — дичи и животных, Земля без удобрений рожает меньше, да чище на ней продукт, и, опять же, животный мир, птица, букашка-черепашка ожила, и кормится ею малая птаха, кое-где слышен голос жаворонка, перепелки, кряк коростеля, свист скворца. А то ведь обезголосела, в уныние впала российская земля, одно воронье торжествует и орет на ней, да крысы едят все и всех подряд в городах, поселках и на станциях. Уже слышны голоса: волка не отстреливают, он сечет все живое в лесах и распространяется по краям и весям, и в городах, воронье почти уже прикончило малое птичье поголовье. Нет скотомогильников в деревнях, нет падали, а вороне без мяса не вестись, не плодиться, вот вороны и сороки начали пиратничать: выедать яйца, птенцов, не только в гнездышках, но и в скворечниках. Хитрые, коварные птицы, подлости и трусости набравшиеся у человека, вороны долго не трогали в нашем селе близкие к магазину скворечники, потому как здесь всегда народ. В основном, они нападают на скворечники во дворах одиноких старушек. Хлопают в ладоши старушки, метлой замахиваются, кричат, но хищнице хоть бы что — сидит на скворечнике и ждет своей удачи.
Перестройка пошла, магазин деревенский купили какие-то пьющие, в коммерции столь же разумеющие, сколь, будучи юными патриотами, разумели они в искусстве и в хлебопашестве. Одну половину магазина с хозяйственными и прочими товарами они сразу же замкнули — надо лопату, обувь, мыло-шило — поезжай в город, говори еще спасибо, что хлеб подвозят, да и то в убыток себе.
Опустел магазин, ослабел напор покупателей, оживились вороны и бродячие собаки.
Приезжаю, как всегда, в начале мая в деревню. Во дворе голубые скорлупки яиц — вороны уже поработали. Скворчиха оказалась упорная и бесстрашная, сделала еще кладку, вывела птенцов. Вороны уж тут как тут, только и слышишь — скворчиха зовет на помощь, стрекочет встревоженно. Я выйду, камнем в ворону брошу — отлетит, сядет на забор, ждет. Так было до тех пор, пока скворчата подросли, и как мама ни остерегала детишек, веля им не высовывать головки — на свет белый поглядеть им охота, да чтоб скорее маму с кормом встретить, — ворона цап-царап ребятенка малого за голову и, молча, воровски махает на увал — там в гнезде ее ждут уже подросшие, зевастые воронята.