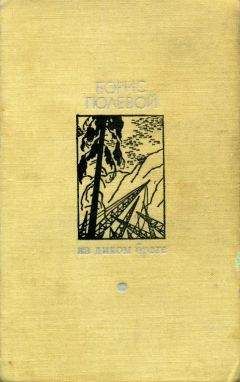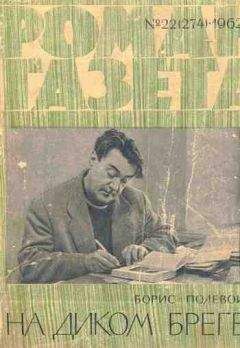— Ну как теперь живется-то, умница?
— Устаю. Знаете же, нас не хватает... Дышите, дышите глубже... Нет, в легких у вас чисто. Я не очень постарела? Сочиняете, постарела. Мне это Валя сказала, а она у вас врать не умеет. Так вот, теперь действительно покажите язык и скажите «а». Нет, и гортань чистая... Вы знаете, Федор Григорьевич, мне иногда кажется, что все эти годы я пролежала в сундуке, бережно во что-то завернутая и посыпанная нафталином. Теперь меня вынули, проветрили на солнышке, выбили из меня пыль, и я живу. Всё, застегивайтесь... Вот что, боли эти мне ваши определенно не нравятся, не смейте сегодня никакой перцовки! Слышите? И завтра пожалуйте в больничный городок, снимите электрокардиограмму. Иначе придется доставлять аппарат сюда на машине... Сейчас я вам напишу рецепт...
Заходившее солнце освещало завитки волос, выбивавшиеся из-под докторской шапочки. Глядя на эту женщину в белом халате, Литвинов испытывал нежность, желание подойти к ней и, как маленькую, погладить по голове, поцеловать в затылок. От Вали он знал, как отклонила Дина предложенную ей комнату, Знал, что Петин, этот сдержанный, знающий себе цену, скрытный человек, бродит иногда по Зеленому городку или около больничных корпусов, не обращая внимания на иронические взгляды. Знал, что для того, чтобы помогать матери, Дина работает на полторы ставки, устает, знал о ее дружбе с Надточиевым и Дюжевым и догадывался, что и тот и другой, каждый по-своему, неравнодушны к ней.
— Что вы меня рассматриваете? — спросила Дина, внезапно подняв голову и перехватив его взгляд. — Этот рецепт я передам Вале, она закажет лекарство. Если станет очень больно, накапайте на кусочек сахара, положите в рот и немедленно зовите врача. Избегайте волнений, резких движений, проститесь с этой вашей гирей...
— Хочешь сунуть меня в сундук, из которого сама выбралась? Дудки! Не влезу, не тот габарит.
— Федор Григорьевич, я серьезно. Мы посоветуемся, — может быть, вам придется поехать на курорт.
— А ну тебя к... монаху! — рассердился Литвинов. И вдруг почувствовал, как плечо, которое перестало было болеть, вдруг снова точно бы загорелось изнутри.
Когда он вышел из кабинета проводить Дину, в приемной сидел Петин. Он встал, отвесил ей молчаливый поклон. Ни один мускул не дрогнул на его сухом лице, но из острых черных глаз глянула вдруг такая тоска, что Литвинов отвернулся.
— Вы ко мне? Долго ждали?.. Что поделаешь, медику в лапы только попади, — сказал он, стараясь не смотреть на Петина, будто был перед ним в чем-то виноват. — Валя, ты бы хоть доложила, что ли.
— А она меня и вовсе не хотела пускать. Говорит, вам нездоровится, зайдите завтра. Строгая девица, — сказал Петин, проходя в кабинет. Присел к столу. — Мы с вами должны поговорить не как начальник с подчиненным, а как два коммуниста, поставленных партией на ответственнейшие посты. — И будто бы для того, чтобы подчеркнуть значение этих слов, Петин встал, подошел к обитой дерматином двери и попробовал, плотно ли она закрыта.
— А я думал, что мы и всегда говорим как коммунисты, — сразу настораживаясь, ответил Литвинов.
— Разумеется, но мне хотелось бы это подчеркнуть, потому что разговор неприятный и мы должны поговорить начистоту.
— А мне казалось, мы и до сих пор говорили начистоту. — Боли в плече усилились, но Литвинов постарался произнести это с безмятежным спокойствием.
— Коммунисты должны быть друг с другом откровенны, и, поскольку вы меня однажды упрекнули, что я действую за вашей спиной, я пришел предупредить вас, что я категорически... — Петин сделал паузу и повторил: — Я категорически протестую против всей этой дюжевщины. И буду протестовать и здесь, и в обкоме, и, если понадобится, в инстанциях. К этому меня обязывает моя партия, которая требует, чтобы члены ее были принципиальными, непримиримыми...
— ...и глубоко человечными, — закончил за него фразу Литвинов, меняя позу в кресле: когда плечо упиралось в спинку, боль была не так сильна.
— Да, разумеется, и человечными, если под этим немарксистским термином не скрываются либерализм, мещанское благодушие и политическая слепота.
«А может быть, дорогой товарищ, вы вызываете меня на скандал? — вдруг подумал Литвинов, вспомнив, что в приемной у двери сидит этот сдобный красавчик Пшеничный — один из самых верных петинских сателлитов. — Может быть, и свидетеля припасли, чтобы соорудить еще одно письмо «молодых товарищей»? Ну нет, спектакль не состоится».
И еще больше насторожившись, он продолжал разговор на «вы»:
— Ваши мотивы?
— Во-первых, я протестую как коммунист. Сейчас, когда партия ведет всенародную войну с пьянством, устраивать триумфальную встречу человеку, опозорившему в столице честь нашего великого строительства, устраивать, вопреки общественному мнению, вопреки прессе, это... Простите, позвольте мне из уважения к вам не называть это собственным именем. Во-вторых, я протестую как инженер. Мне известно, к чему однажды привела эта идейка, может быть и заманчивая для тех, кто не очень глубоко разбирается в технике... Я вам об этом докладывал и устно и письменно... Мы строим не какую-нибудь там межколхозную электростанцию. Мы строим мировой уникум, за нами следят миллионы глаз, мы не можем, не имеем права допустить...
— В-третьих? — тоненьким голосом перебил Литвинов. Весь сжимаясь от боли в плече, он делал невероятные усилия, чтобы этого не показать,
— В-третьих, я слишком уважаю вас, чтобы позволить вам несколько... э-э... необдуманно поставить под удар ваш авторитет... Лично меня это не затрагивает. Но, как человек честный и принципиальный, видя, что вы делаете ложный шаг...
— ...Вы удерживаете меня? Спасибо. Я очень ценю честных, высокопринципиальных, бескорыстных людей. — Литвинов сказал это совсем спокойно, но грубое лицо его было бледнее обычного и как-то все неестественно напряжено. Петин видел это. А когда начальник встал и пошел к вделанному в стену сейфу, Вячеслав Ананьевич заметил, как он болезненно прикусил губу.
Неторопливо достав из кармана ключи, Литвинов погремел ими, отпер сейф, отвел толстую стальную дверцу. На свет появилась какая-то папка. Это были выписки из уже знакомого нам судебного «Дела». Пропустив преамбулу, Литвинов начал вслух читать с того места, на котором он, знакомясь в прошлый раз с «Делом», остановился:
— «...Дело слушалось... при научно-техническом эксперте обвинения, кандидате технических наук, лауреате Сталинской премии, доценте Петине Вячеславе Ананьевиче...» — прочел он вслух и вздохнул. — Очень ценю бескорыстную принципиальность. — Протянув бумаги через стол, он спросил вежливейшим тоном: — Может быть, вам будет угодно освежить в памяти ваше заключение, прямо скажем, не только техническое?.. — И жестко закончил: — Несправедливое заключение, которое когда-то погубило хорошего, честного человека...
Оставив в руках Петина бумаги, он отошел к окну, незаметно разминая рукой плечо. Он видел, как взгляд Петина, скользнув по оглавлению папки, стал растерянным, вопросительно уставился в лицо начальника и тотчас же опустился вниз. Вячеслав Ананьевич продолжал сидеть, держа папку в отдалении, будто в руках у него была живая извивающаяся змея. Смуглое лицо его стало зеленоватым, а на висках выступили капельки испарины... «Как на ломтиках редьки, когда их посолишь, — подумал Литвинов и удивился: — А ведь и верно, пожалуй, похож на хорька, которого собака загнала в угол».
— Так вот и поговорим начистоту как коммунист с коммунистом. — Маленькие синие глазки цепко держали теперь в поле зрения побледневшее, растерянное лицо Петина. — Ну?
— Взгляните на дату, — тихо произнес Петин. — Вы же знаете, какая в те дни была обстановка.
— Об этой обстановке ЦК партии все сказал народу. Я был на съезде, слышал. Мне выть хотелось, но я говорил: правильно, только так и можно. Больно, а надо рвать с мясом, чтобы не оставить где-нибудь метастаза... Разве только вы работали в этой обстановке?
— Но у меня требовали...
— Требовали технической экспертизы... А эти слова, я их там в бумагах подчеркнул: «Эти действия гражданина Дюжева носили явно умышленный и злонамеренный характер» — это разве техническая экспертиза?
— Но вы же помните, какое тогда было время...
— А сейчас? — Синие, широко расставленные глаза жестко смотрели в лицо Петина. — Эх вы! Советская власть гордая, самолюбивая власть, перед Павлом Дюжевым извинилась. Партия наша — суровая, непоколебимая партия — признала свою в отношении к нему ошибку. Стаж ему вернула. Сибирские мужики душу ему отогрели, а вот честный, бескорыстный, высокопринципиальный товарищ Петин простить не может того, что человек столько времени из-за его трусости или из-за чего-нибудь похуже в тюрьме отсидел...
Литвинов все еще стоял у окна, как бы смотря на улицу, но в темном стекле, к которому уже прильнула ночь, он четко видел собеседника, продолжавшего держать папку на отлете, видел его растерянное лицо. «Ах, эти бы чертовы капли, обещанные Диной! Но держись, держись, Федька! Этому слабости показывать нельзя».