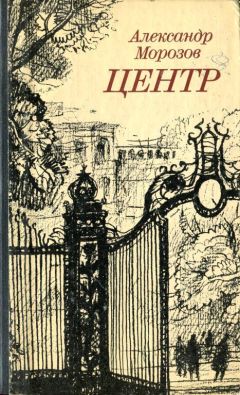— Да-да, я о нем слышал.
— Ну вот, они и разработали некоторый математический аппарат, позволяющий формально оценивать семантическую насыщенность поэтического текста. Его, так сказать, семантическую мощь. И по этой методике они обработали десятки поэтических сборников, в том числе, как вы понимаете, и всю нашу знаменитую обойму. И знаете, кто вышел на первое место?
— Я слушаю.
— И при этом со значительным отрывом. Семантическая мощь, или, говоря по-другому, смысловая насыщенность стиха… Я вообще-то не очень-то доверяю всем этим формулам, вряд ли они ухватывают главное. У меня даже было несколько статей против Хомского, Якобсона и французских структуралистов. Ну да ведь вы сами об объективности заговорили. Ну вот, по этим их объективным оценкам — самые изощренные, плодоносные и цветущие семантические поля оказались у одного из наших. У Гены Щусева.
— Как его стихи попали к Лотману?
— Ну, Гена по родственным линиям был кое-куда вхож. В академические, театральные и иные круги. А на известном уровне там все друг друга знают. Короче, стихи попали на обработку в Тарту. А результат вам известен.
— А что же произошло тогда? Двадцать лет назад?
— В точности то же, что происходит и сейчас с моим выступлением и вашими хлопотами по созданию совета, или временного коллектива. Я ведь вам уже это формулировал: кто-то требует все, и благодаря этому остальные получают хоть что-то. Стихи Щусева и некоторых других из наших звучали на площадях, и на этом фоне литдеятельность тех, кто принимал участие в днях поэзии и иных санкционированных мероприятиях, оказалась приемлемой. Она всплыла наверх, потому что было чему подпирать и выталкивать ее снизу.
— Но почему же? Почему ваш Щусев и другие ребята не пошли по пути институционализации? То есть не возглавили, вместо того чтобы подпирать снизу?
— А это уж, Клим Данилович, в самом точном смысле слова, то, что называется с у д ь б а. Из чего она складывается? Различный уровень притязаний и первоначальных установок, разная психология, ведь возможны в человеке и как бы врожденная отвращенность, недоверие к этой самой институционализации? Да и… заманчиво тогда это было: попытка одним махом достичь всего. Ведь все можно получить только самостоятельно, ни у каких дядей не спрашивая разрешения. Поэзия — это наше дело, вот так это тогда воспринималось. И сами стихи и выход на слушателя. Н а ш е, а, допустим, не членов каких-то там редколлегий. Почему же мы должны были контактировать с кем бы то ни было? Ну и… не получилось. Массивный мир не позволил обойтись без его посредничества. Но наша попытка, повторяю, послужила реактивным топливом для взлета того, что сейчас считается классикой шестидесятых.
— Вы знаете, Виктор, ведь схожие истории происходили и в науке.
— Разумеется. Ведь у нас, в нашем конгломерате, были не только поэты. Существовала и весьма мощная группа философов. Не только, конечно, профессионалы, но и, так сказать, любители мудрости. Но основной костяк — ребята с философского факультета, студенты и даже несколько аспирантов. Они позже организовались в Общество молодого марксиста и уже провели сколько-то открытых ученых заседаний, собирая аудиторию в несколько сот человек, и уже планировали первые выпуски своих трудов… то есть почти институционализировались. Но именно… п о ч т и. А в конце концов получилась точно та же история, что и с поэтами. Юрия Анучина слышали?
— Что значит слышал? И лично знаком, правда, не близко, и книги читал. О математизации знаний и философских проблемах квантовой механики…
— Самый молодой доктор философских наук за всю историю советской философии. Лет в тридцать пять, кажется, защитился. Ну затем хотя бы Эдуард Основьяненко — критика Марбургской школы — и другие.
— По какому принципу вы их объединяете?
— И тот, и другой, а я мог бы назвать и третьего, и четвертого, — они ведь как раз начинали в Обществе молодого марксиста. А оно возникло, как я вам уже говорил, из нашего конгломерата.
— Так вот, видите, Анучин и Основьяненко сумели, значит, вовремя…
— Оторваться?
— Перерасти. Можно ведь и так сказать? Почему же этого не произошло с ведущими из ваших поэтов?
— Тут была некая грань, Клим Данилович. Начальные условия оказались заданными так, что эти уравнения не имели решения в рациональном поле.
А через неделю хоронили Кюстрина. Хоронили именно его, то есть, разумеется, его тело, а не урну с прахом покойного. Оказалось, что у Кюстриных имелось семейное захоронение на маленьком деревенском кладбище под Переславлем-Залесским, недалеко от озерца, где стоял на исторической стоянке (на осмотр туристам) ботик Петра Первого. Не от тех ли времен и фамилия эта нерусская пустила здесь корни?
На похороны не приехали Хмылов, так как лежал в больнице, и Гончаров, так как скрывался у себя на даче в непонятном состоянии. Во всяком случае, то, что в трезвом, смог зафиксировать Карданов из телефонного разговора, состоявшегося накануне, Юра звал его к себе на дачу, а в Москве отказывался появляться, и вообще по смыслу разговора производил загадочное, чтобы не сказать неадекватное, впечатление.
Приехала Свентицкая — ей-то что было нужно, ведь она почти и не знала Кюстрина? — и во всех оргусилиях принимала участие наравне с сестрой Кюстрина, вообще они держались вместе и производили впечатление давно знакомых. Прибыла и Екатерина Николаевна, но эта — Карданов не то что предчувствовал, а почти знал — объявилась в исторических местах скорее не для прощания с Кюстриным, а для свидания с Кардановым. Разумеется, присутствовали муж сестры и еще несколько родственников с его стороны, то есть те, для кого Кюстрин был забубенным братом жены сына и тому подобное, почти абстрактное, но долженствующее быть соблюденным.
Никому из них нечего было сказать перед открытой могилой, и Витя понимал, что им и неинтересно, даже если бы нашелся кто-то, у кого нашлось бы что сказать. Но понимал он и другое, что перед лицом уникального события, которого ни повторить, ни изменить или переиграть во все будущие столетия не удастся, — что в эти единственные минуты рациональные обоснования — интересно ли это кому-либо здесь и даже понятно ли будет хоть одному или одной — не должны слишком-то приниматься во внимание.
И Карданов перед последним моментом сокрытия лика Кюстрина от какого бы то ни было света вышел вперед и спокойно, но достаточно отчетливо сказал то, что считал необходимым. Он знал, что даже если и нет здесь тех, кто мог бы это воспринять, то каким-то образом они все же воспримут. Было бы сказано.
Он говорил достаточно механически, потому что заранее знал, в каких выражениях следует рассказать простую историю. И поэтому ум его был необременен, и он мог, как бы попеременно с произносимыми словами, еще и думать. Он говорил:
— Кюстрин совсем недавно рассказал мне об этом. Никогда мы с ним не говорили… об истоках. Не принято было как-то между нами. Зря, наверное. Как и на этот-то раз зашел разговор? Как будто он чувствовал, что другого случая не будет.
В сорок втором его мать оказалась на оккупированной территории. Из леса к ней наведывались партизаны: и за продуктами, и разузнать насчет немцев, где они и что. Немцы же, кое-что заподозрив, предложили ей подписать бумагу о сотрудничестве. Мать доложила партизанам об этом предложении, и они одобрили подписание бумаги с тем, чтобы она докладывала об их появлении только спустя сутки, то есть когда они уже были бы у себя на базе, глубоко в лесу. Так явочный пункт был бы какое-то время сохранен… А в сорок третьем немцев из деревни уже погнали, и среди брошенных отступающими документов было и подписанное матерью «соглашение о сотрудничестве». Она, конечно, рассказала, как было дело, но никого из тех партизан, кто мог бы подтвердить ее слова, не оказалось: кто погиб, кто влился в наступающие части регулярной армии. Дали матери десять лет по политической статье, и она отбыла их под Архангельском, от звонка до звонка. Через десять лет, в пятьдесят третьем, она вернулась, через три года была реабилитирована, а еще через три скончалась. Когда я спросил Кюстрина: «Но ведь она была реабилитирована?» — он ответил: «И только-то? А десять лет?»
И, закончив речь, Карданов, глядя, как опускают в яму гроб и бросают горсти земли, думал: «Умереть — значит очнуться от жизни. Впервые написав это когда-то, я ведь долгое время находился под впечатлением якобы красоты и значительности такой формулы. Но в конце концов должен был со всей решительностью признать, что это — пустота.
Но почему же так? Причина, как я теперь понимаю, все та же: в любых высказываниях, где хотя бы косвенным образом замешана смерть, сквозит именно пустота. Смерть выполняет во всех подобных рассуждениях роль нуля в алгебре. Сколько ни перемножай гигантских формул, если на какой-то позиции сложнейшего многочлена где-то затесался в сомножителях нуль, то и все произведение равно нулю.