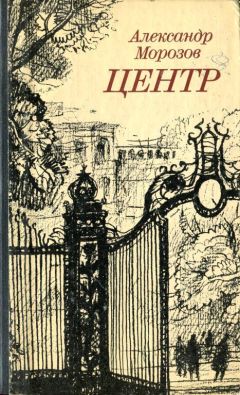Лаврик недоуменно покосился на нее через плечо — только ведь подъезжали к Окружной, — однако ничего не спросил, остановил машину, и Катя вышла, даже не попрощавшись.
— Кто это? — спросил Лаврик.
— Екатерина Николаевна Яковлева. Или Гончарова. Я забыл вас представить.
— Ну… ничего, — мотнул головой Лаврик. — Поехали. Это важнее. А потом я могу завезти вас к Ростовцеву.
Глубоким вечером Карданов добрался до дачи Гончарова, и тот сообщил ему, что две недели назад он случайно встретил Сашу Петропавловского.
— Ты помнишь Сашу Петропавловского, ну он еще поэтический кружок для семиклассников при библиотеке вел?
— Он мой друг, — ответил Карданов.
И Саша, депутат райсовета, предложил Гончару подключиться к работе комиссии по делам несовершеннолетних.
— А как же… документы? Ты ведь даже не уволился с прежнего места?
— А… там без формальностей. Ну, поднесу я, конечно, им документы.
— Значит, ты в Москву отсюда ездишь на новое место? А жене… все равно ведь придется сказать.
— Как раз не в Москву. В обратную как раз сторону. Полтора часа на электричке. Есть там такое заведение под названием спецПТУ. Из Москвы почти три часа езды. Поэтому и сижу здесь. И осень, смотри, какая.
— А жена?
— Завтра первая зарплата на новом месте. Тут всё и выяснится. Накоплений у меня никаких. Так что, никуда не денешься, придется объясняться.
— И сколько же ты потерял?
— Почти всё. За степень, тем более кандидата технических наук, там не платят.
— Я тебе не завидую.
— В смысле Кати?
— А почему не приехал хоронить Кюстрина?
— Страшно, Витя… Того, что там должно было произойти. Эти родственники сестры. У него же никого, кроме нас, не было. Я тебя знаю, Витя, ты все сделал чин чинарем. Ну а мне позволь… по-своему. Я на могилу буду к нему приезжать. Часто. Вы никто не будете. Ну, может, раз в год по обещанию. Вы все сделали чин чинарем. И баста. А я — буду. Подожди, я в избу зайду, куртку надену. Провожу тебя до станции.
Они пошли до станции, и эта дорога запомнится Виктору на всю жизнь (какая у него еще будет, быть может), Гончар подотстал на полшага, белела в темноте дорога. Витя и головы не поворачивал, только слушал и слушал:
— Мы ничем не смогли помочь Кюстрину. Мы ничем не смогли помочь никому и даже друг другу.
— Неправда, и ты это знаешь, — не сказал Карданов.
— Это ведь только так поется, Витя: «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке», — это только так поется.
И вот пока поется, вот во время пения-то самого — ну это да, тут мы за руки, пожалуй, и держимся. Но ведь не петь же все двадцать четыре часа в сутки. Конечно, пусть хоть какое-то время, и на том спасибо, в этом-то она и есть, так называемая функция искусства. Пока в экстазе… А что значит п о к а? Почему бы и не все время? А если нельзя в с е г д а, то и не нужно оно, это «всегда», то, что после песни…
По-честному говоря, Витя, я вот не поехал на похороны, а ведь они могли бы быть моими. Сколько уж раз можно было бы сгинуть. А может, и нужно было.
Но все длится и длится… что же?
И мы все расставляем и расставляем по-новому мебель, и однажды… не чудо ли это, Витя, ведь не выходили же никуда… Но, однажды, переставив в какой-то там раз, подходишь к зеркалу и видишь… Да нет, не свою образину из оперы «Седина в бороду — бес в ребро», что́ в ней? А видишь — и не в зеркале, а вокруг и сзади, сверху и отовсюду, — что ты в другой квартире. Ей-богу, Витя, в другой. В новенькой. А ведь никуда не выходил. Ну вот просто ни разу. Ни на полгода, ни на четверть мгновения. А все равно — в другой.
Дожили, значит. «Слезайте, граждане, приехали, конец», — как пелось в песенке из годов наших забубённых. Приехали.
Но кто там идет по рядам и требует предъявить проездные? А фиг не хочешь? Мы сами, сами доехали и доволокли свои колымаги!
Подожди, не выходи на перрон. Твоя электричка только через пять минут. Давай постоим здесь, в кустах. В темноте, где нас не видно. Хоть пять минут.
Это матери, Витя, матери наши… Вцепились тогда — после победы — в нас зубами… как в щенков. Потому и выплыли. И дожили.
— Пора, — попытался шагнуть из кустов Карданов.
— Постой, ты… единственный, — уже лихорадочно забормотал Гончаров, — история, общество… опомнись! То все складывается махинообразно… вне досягаемости. Цеппелины… над континентами… Но ты… информатик вшивый, бог дал, бог и взял… вот ты — пока не взял тебя — хоть информацию-то о том, что было. О Тверском бульваре сорок девятого… Стопятидесятилетие со дня рождения Пушкина. О старике, который тянулся положить букетик, и его — помнишь? — оттолкнули. Так, что он грянул. О гранит. О той Москве, которой никогда больше не будет. О центре…
Панически взвыла за лесом рвущаяся по дуге лунных рельсов электричка. Карданов уже почти не вслушивался, а как бы телепатически воспринимал, загипнотизированно глядя в чрезмерно близкие глаза Гончарова.
— Изменить мировые линии? Где тот магнит, и по твоему, что ли, он карману, небольшой такой — от полюса до полюса? Микроэлектронные платы. Микроминиатюризация… надцатые поколения компьютеров. Пятнадцатилетние мэны. Акселерированные от и до. Не пацаны.
И я тебе раскрою последний секрет. Перед тем, как мы выйдем на свет этого перрона.
Будущего — нет. Его уже нет — в будущем. Оно уже наступило. Володя Высоцкий умер в тот день и в тот час. И, наверное, в ту самую секунду. Грань. Он это почувствовал. Он ведь тоже из тех самых… из послевоенных пацанов. Постарше нас лет на пять всего. И он это почувствовал: пацанов больше нет. Вокруг — будущее. И все мы в скафандрах космолетчиков. Мы все сейчас живем в Звездном городке. Он — повсюду. И мы проходим предполетную подготовку. From here to eternity. Отсюда — и в вечность! А проще говоря — в двадцать первый! Пиши прощай… и посвист ветра.
1980—1985