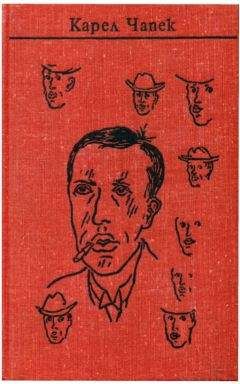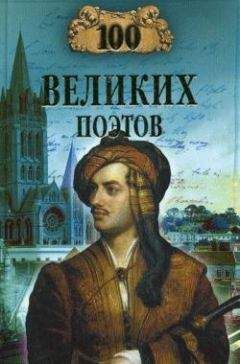На коровенках пахали, мотыгами да лопатами земельку ковыряли, бревна да доски таскали, чего только не делали. Недосыпали, недоедали, а жизнь начинали заново на пустыре да пожарище. Сын с фронта вернулся. Потом уже я стариться стала, кости на теплую печку, к горячим кирпичам запросились.
А работать и сейчас охота есть. Дети да внуки сердятся, спрашивают: «Чего тебе надо? Скажи. Чего не хватает?» Что ответишь, чего скажешь? Ничего не надо. Всего вдоволь, а самого дорогого — людской заботы-доброты предостаточно!
Прервали нашу беседу пришедшие с работы сын да невестка. В дружной семье вечер прошел незаметно. Наутро метель стихла и мою болезнь с собой унесла.
Попрощалась с Никитичной по-старинному карельскому обычаю, коснувшись пальцами ее плеч.
С удовольствием и она последовала моему примеру.
— Доброго здоровья тебе на долгие годы, пяйвяне каунис, — сказала я.
У Никитичны задрожали ямочки на старческих щеках, а в поблекших глазах вдруг засверкали озорные, веселые огоньки…
(литературный псевдоним Николая Григорьевича Гиппиева)
Родился 27 мая 1920 года в семье крестьянина села Реболы Карельской АССР. С 1939 по 1950 год находился в рядах Советской Армии. Во время Великой Отечественной войны участвовал в боях на Карельском и Ленинградском фронтах. Н. Г. Лайне — один из активно работающих поэтов Карелии, автор 12 поэтических сборников, изданных в Петрозаводске, Ленинграде и Москве. Много и плодотворно работает как переводчик. С русского на финский язык им переведена поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», главы из поэмы А. Твардовского «Василий Теркин». Вместе с другими карельскими поэтами перевел на русский язык «Калевалу».
Н. Г. Лайне награжден орденами Красной Звезды и «Знак Почета».
Солнце нещадно жарило с безоблачного неба, и синеватые сугробы жались к промерзшему вересковому берегу. У лодочного причала наст совсем осел, и глыба валуна будто вскинула свой округлый бок, чтобы оглядеться хорошенько. Валун был шероховатый и рыжий, как голая плешь Пуавилы Тёрхёнена. Если поместить их рядом, нелегко было бы догадаться, где тут затылок Пуавилы, а где наждачный лоб валуна. И даже редкие волосинки, обрамлявшие уши человека, были столь же серы, как исчезающий на глазах талый снег.
Самому Пуавиле Тёрхёнену некогда было думать об этом. Он сидел без шапки на киле лодки и сосредоточенно шпаклевал тряпьем щели, не отвлекаясь ни на что. Рядом на костре кипела и бурлила в ведре черная-пречерная смола.
— Так-то… Тютелька в тютельку… будто нож чудилы Хуотари в берестяные ножны, — пробормотал Пуавила, вгоняя в трещину пук просмоленной пакли. На глаза ему не попалось больше ничего, похожего на щель, и, глянув из-под бровей на мальчишек-школьников, он произнес будто заклинанье: — Аккурат вошло. Теперь уж не вылезет. А сверху я обдам еще кипящей смолой…
Почему это и как, сказать трудно, но мальчишки всегда роем вертятся там, где «колдует» Пуавила Тёрхёнен. Пристанут, как банный лист, и никуда от них не денешься. Не считая, конечно, тех расчудесных вешних деньков, когда Пуавила удирает на своей моторке на дальний островок в свою рыбачью избушку. Ничем особенно ребятишки, правда, его и не донимают. Вот и сейчас — погалдели негромко и замерли, глядя, как хлопочет Пуавила. Наконец один робко спросил:
— Дядя Пуавила, кто такой был чудила Хуотари?
Пуавила Тёрхёнен не так уж скуп на слова и охотно рассказывал мальчишкам, если поблизости не было взрослых. Он легко спрыгнул на землю, погладил широкой ладонью затекшее колено, стал шарить по карманам. Потом вдруг вспомнил, что не курит уже третью неделю.
— Ну и хрен с ним! Черт бы побрал и курево и курильщиков! Наважденье на старости лет! Вот что я вам скажу… Ты о чудиле Хуотари вроде спросил? Был у нас, братец, такой мужик, душа человек. Высок, плечист и строен, как лучший сосновый кряж с хребта Талвисвуоры. Сущий медвежатник. Как сейчас его помню, хотя был, вроде вас, пацаном. Прошло-то с тех пор пять десятков лет.
Так-то оно. Не был чудила Хуотари не дурак и не дубак, а была такая мода на прозвища. Чудила — и все. Наш Тергуевский род обзывали тетерями. А Пакаринена, богатющего купчину, только и поминали, что криволапым Скупердяем. До того был жаден, собака, до того скуп, что остатки от рыбной похлебки велел сушить и снова варить на обед.
И была только одна наследница у Скупердяя — дочь Палака. Тонкая и ладная, что твой праздничный блин на топленом масле. До того легка да пригожа, что у меня и сейчас, на старости лет, в горле щекочет…
Пуавила Тёрхёнен прищурился — глаза его сверкнули, — и он чмокнул от удовольствия. Только тут скумекал, что, кажется, коснулся того, что рановато знать его сегодняшним слушателям. Почесал пятерней за ухом, растерянно покашлял, но его так и подмывало рассказывать дальше.
— Но и богачи, бывало, сходили с ума. Взяла Палака да и влюбилась в чудилу Хуотари. По уши втюрилась. По семи раз на дню старалась попасться на глаза парню и безутешно плакала по милому в кустах. И много было дочерей из крепких домов в деревне, готовых броситься на шею чудиле Хуотари. А удивляться тут нечему! Такого распрекрасного жениха, как он, поди-ка сыщи. Только напрасно они в сердце его держали. Их ни за что не выдали бы за Хуотари. Беден был парень. Ни кола, ни двора. И все-то его богатство — два огромных кулака, будто орясины. И ко всему еще угодил чудила Хуотари в солдаты, аккурат в мировую войну.
Три года о нем не было ни слуху ни духу. Думали уже, положил он свою голову на широких русских просторах. Но не так-то легко вышибить из человека дух, как считают некоторые.
Случилось это вроде в четвертый военный год. В самую весеннюю распутицу. Я собрался на тетеревиный ток, как раз прилаживал лыжи возле бани. Гляжу на озеро и глазам своим не верю: неужто сам чудила Хуотари шпарит по льду?
Но что правда, то правда, тут уж не соврешь. Сам чудила Хуотари и был это. Грянул, как молния посередь зимы. Берданка на плече, а в кармане бумага с печатью, или как он называл ее — мандат. Пришел, попарился в баньке, к вечеру созвал мужиков на сходку и давай толковать: мол, надо установить у нас Советскую власть. Так же, дескать, как и в других краях России. Разделить луга и поля. У кого в хлеву полно лошадей и прочей живности, отобрать лишнее и отдать на развод другим…
Тут-то и началась буза! Такой рев пошел, что затыкай уши. Кто про что орет: одни этак, другие так, третьи посередке… И никто друг друга не слушает. Двое суток без передышки, не отлучаясь домой. Хозяйки (а баб в те поры на сходки не пускали) таскали мужьям картоху да соленую рыбу. Чтобы, значит, не приведи господь, они с голоду не перемерли. Подзакусят малость, всхрапнут немножечко тут же у печки и снова, закусив удила, в бой! У кого глотка послабей, тот уже руками своё доказывает. Вроде этого самого криволапого Скупердяя. Как только ни честил он чудилу Хуотари. И «щенок приблудный», и «жулик мережный» и «безбожник» и «коммунист»!
А силушки у чудилы Хуотари было побольше, чем во всей нашей деревушке. Вот он и пустил в ход свои орясины и успокоил крещеный народ, так что к вечеру третьего дня мы смогли приступить к голосованию.
Кто при этом одолел, ясно и так. Конечно, беднота. Бедных людей всегда было больше на белом свете, чем богатых. И с того самого вечера чудила Хуотари стал верховодить Советской властью в нашем родном краю. Через денек-другой пошел к Скупердяю-Пакаринену и потребовал ржи в общий семенной амбар. Вот тут-то Палака и показала свои коготки. Шипела и плевалась, будто кошка перед охотничьим псом. Не смогла ни мерки ржи отдать без крику бывшему своему миленку…
Пуавила Тёрхёнен помешал смолу в ведре, подкинул в огонь поленьев и продолжал:
— Новая власть была как заноза в глазу у богачей. Не было покоя ни днем ни ночью. Мироед из деревни Омельяновка Кюнттиев, тот только и делал, что гундосил: мол, чудила Хуотари — красный царь, сельсоветский дом — дворец для голодранцев, а вся волость — держава сторонников чудилы Хуотари.
От былого спокойствия не осталось и следа. Деревня бурлила и кишела, как муравейник, и наконец разделилась на три враждующих стороны. Дом на дом, мужик на мужика. И у нас в избе тоже. Старшие братья глядели друг на друга, как злые жеребцы у одних яслей. Невестки то и дело запускали коготки друг другу в волосы. И никто вроде не замечал нас с покойным отцом. Зачем, дескать, полезли в одну компанию с чудилой Хуотари.
Три группы — ни дать ни взять три заправских партии. Нам, сторонникам чудилы Хуотари, все ясно, как божий день: хочешь голову на плечах носить, держись когтями и зубами за Советскую власть. И не уступай ни в чем даже ценой жизни.
Кюнттиев со своими сыновьями твердит одно и тоже: надо вытряхнуть душу из чудилы Хуотари, а волость присоединить к белой Финляндии. Старик оббегал и Мутму и Роуккулы, вложил в дело немалые деньги и явно стал готовить мятеж. Вместе со своим финским помощником. Это был гордый господин, что твой пристав с головы до ног. Вот фамилию я запамятовал, а народ его величал «лессманом»[4].