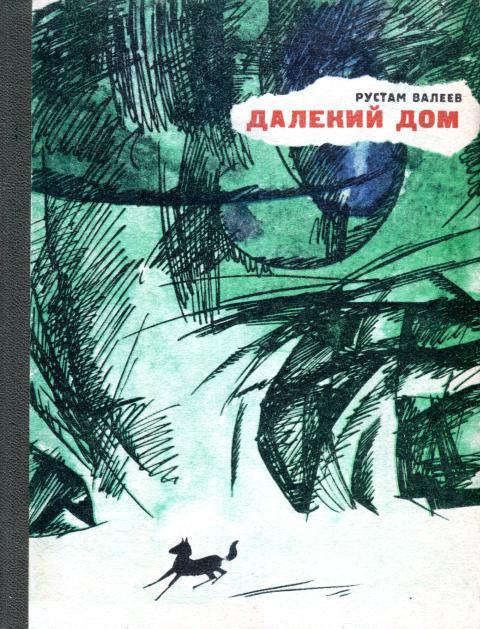сволочь! — вскричал диким голосом Каромцев. По крыше загремело, и по ту сторону сарая послышались панически быстрые шаги убегающего. Каромцев, тяжело дыша, уронил на бедро кулак.
— Кто это?
— Да брательник Грохлова, — ответил отец.
— Холуй кулацкий…
— Баламут, — сказал отец.
Бабушка Лизавета жила одна в своей избушке, и Каромцев, прикинув, что единственный постоялец не будет ей в обузу, поместил Хемета к ней.
Днем лошадник ходил по селу (он перезнакомился со всеми обитателями волостного приюта, спрашивал про сынишку), а вечером тихо-мирно шел в огород, сидел там, курил перед сном, а потом заваливался, укрывшись тулупом.
После второй ночи бабушка Лизавета явилась к Каромцеву. Денка, говорит, намедни приносил крынку молока утрешнего, так я, говорит, хотела творог сделать — сама бы поела и угостила жильца. Под смородиновый куст, говорит, вкопала крынку, а утром, смотрю, крынка на месте, да пустая.
Каромцев сказал:
— Не может быть, чтобы Хемет пил твое молоко да еще украдкой.
— Я и не говорю, что он пил, — ответила бабушка, — только молоко у меня никто не трогал. Яйца пропадали из курятника, рыба пропадала, яблоки снимали. А чтобы молоко из крынки пропало, такого не было.
— Ладно, — сказал Каромцев. — Денка будет приносить не одну, а две крынки. Одну под тот куст будешь ставить, а вторую под другой — так что одна уж наверняка уцелеет.
Он подумал: не беда, если Хемет пьет молоко.
На следующее утро бабушка опять пришла. Я, говорит, ничего о постояльце худого не говорила, хотя, может, он и пил молоко. Не говорила, а теперь скажу. Что же он, басурман бессердечный, делает? За что же он измывается над дитем безродным, над беженцем голодным? Зачем вожжами связывает, как арестанта? Ведь ежели мальчонка и пил молоко, так уж мне решать: судить его или миловать. Так чего же он хозяйничает в моем дворе? Ежели мальчонка пробрался в мой огород, так мне и наказывать, а не ему.
«Наверно, мальчишки залезли в огород», — думал Каромцев, отправляясь к бабушке. Огород у нее за избушкой был — по всему отлогому склону большого оврага, вплоть до речки. С трех сторон его ограждала изгородь из жердей, с внешней стороны изгородь обросла плотной грядой чернотала и бузины, а с тыла — мощными корнями крыжовника и смородины. А на подступах к изгороди по всему оврагу — непролазные заросли ивняка. Но мальчишки лазали. Так что, думал Каромцев, и на этот раз воришка рыскал в огороде и наткнулся на крынку с молоком. А Хемет перепугался, видать, за коня и всыпал мальцу.
Он прошел дворик, открыл легкую плетеную дверку в огород, подался тропинкой под уклон и увидел: к корявому стволу ивы привязан вожжами мальчонка, худой, обросший и оборванный, глазенки дикие. Хемет моет ему лицо, поливая себе из крынки. Его пленник вертит головой и визжит, и кричащая рыжина его буйных волос как-то в лад соединяется с пронзительным визгом.
— Что, — спросил Каромцев, — прежде чем отправить в каталажку, ты его почистить хочешь?
Хемет осклабился радостно.
— Гляди, сына нашел! — сказал он.
— Вон что-о! — Каромцев подошел ближе. — А чего же ты связал его?
— А вот попривыкнет к отцу, — ответил Хемет, — так потом развяжу. Да и так бы развязал, только он мне все руки покусал. — И он показал руки, покусанные до крови.
Помыв мальцу рожицу, Хемет протянул ему полхлеба. Малец — руки у него был свободны от пут — тут же и начал уплетать хлеб. Минутой спустя его начало корчить, но, даже корчась, он хватал ртом кусок и глотал с поспешностью воришки.
— Развязывай, — приказал Каромцев, — развязывай, если хочешь, чтобы сын у тебя в целости остался!
Они расстелили тулуп и положили мальчонку, и скоро бабушка Лизавета поспела с лекарством.
— Нате-ка, дайте испить. А я пойду отварю еще овсянки. Да разве можно так измываться над дитем! — так она говорила, будто Хемет нарочно скормил ему хлеб.
Они перенесли мальчонку в сени. Попив настою, овсяного отвара, он успокоился и скоро уснул. А они сидели, двое взрослых мужиков, над распростертым плоским тельцем и молчали. Сколько поумирало таких мальцов, сколько трупиков перевозил сам Каромцев, подбирая их на вокзале, на улицах городочка. По субботам в исполком приходил дворник из приюта и просил подводу. Дети умирали, и он в течение недели складывал трупики в дровяном сарае, а в субботу брал лошадь и отвозил трупики на кладбище…
— Оклемается парень, — сказал Каромцев тихим голосом, — не тужи.
— Да, да, — кивнул Хемет. — Только опять же удрать может.
Каромцев рассмеялся.
— Куда ему бежать от родного отца?
Посидев еще с полчаса, он сказал лошаднику:
— Пора мне. Собрание проводить надо. И ты приходи.
— Скоро ли домой поедем? — сказал Хемет, и лицо его нахмурилось.
— Завтра, — ответил Каромцев и улыбнулся, — завтра же.
Сколько помнил себя, столько же он помнил и эту обширную площадку крыльца, господствующую над площадью. И вот похаживал он, волнуясь, по этому крыльцу, обнесенному с двух сторон широкими, оглаженными временем перилами…
Первыми на площадь пришли бедняки, коммунары и стали близко к крыльцу, затем потянулись прочие — вот кулак Голощекин плечом к плечу с зятем шагает, уверенно отталкивая коленями длинную полу мехового пальто, и складки его раскрываются там, где не выцвел еще темный муслин, и пальто изощренно пестрит в глазах. В сопровождении сыновей пришел старик Ершов, низкорослый, с узким худым лицом, с куцей рабской бородкой, похожий и не похожий на отца, или деда, или прадеда, который бог знает когда явился из северных губерний на пустынную, чреватую богатыми плодами землю, чтобы поставить глинобитную мазанку и вспахать степь и изо дня в день, из года в год, из десятилетия в десятилетие — кормить сперва себя и заморенных детишек, а затем копить по крохам запасец хлеба и кой-какое имущество и уменьшить, если не уничтожить совсем тот страх в себе и в своих отпрысках, ту глубоко въевшуюся тревогу за будущий день, для того, в конце концов, чтобы однажды отпрыск его в образе старика Ершова явился в сентябрьский теплый вечер на площадь, имея по бокам рослых, сытых сыновей. Кулак Зверев, тоже старик, явился одним из последних — протянул-таки до прохлады и надел енотовую шубу, недавно приобретенную у спекулянта!
Глядя на них, Каромцев думал о том, что вся его наперед заготовленная речь не тронет того же Зверева, или Ершова, или Голощекина. Но это и не сильно беспокоило его, он знал против них только одну меру, на которую был способен, точнее, только одну меру, в результате которой они