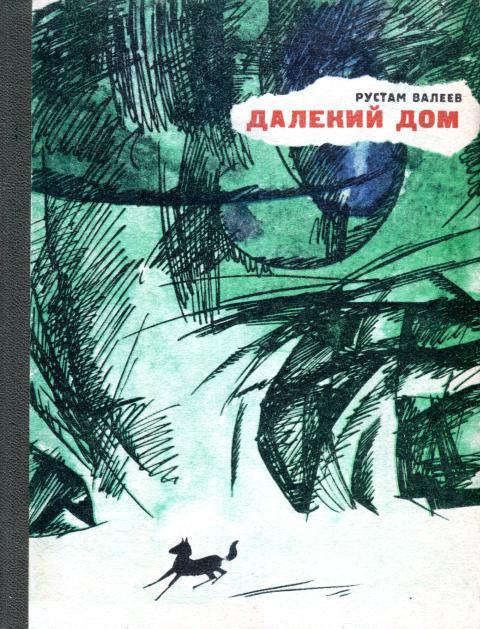его живость, готовность, и в те секунды промедления, которые будто сковали его движения, Каромцев почувствовал в нем холодок упрямства, неуступчивости. Хемет спросил:
— Как же я сына оставлю? — Он так это спросил, словно раздумывал: стоит ли ехать?
Каромцев ответил:
— Не волнуйся, никуда он не убежит. Ну, — тут он усмехнулся, — если боишься, скрути его вожжами… — И он еще не досказал, а Хемет наклонился и, пошарив у ног, поднял вожжи, и тогда Каромцев почти крикнул: — Перестань… язви тебя в душу!
Пока Хемет запрягал коня, Каромцев стоял у калитки и, слушая живой храп лошади и бормотание Хемета, думал о том, что слишком задержался в Кособродах и что, как только он найдет спрятанный хлеб, тотчас же и уедет.
Хемет выехал из ворот. Каромцев походя хлопнул коня по крупу и живо вспрыгнул в ходок. Телега с мелким стрекотом покатилась по улице. У нардома они взяли Нестерова и двух мужиков и поехали к дому Голощекина.
Им долго не открывали, и когда пес во дворе стал хрипеть от продолжительного лая, наконец, послышались шаги за высоким забором, и парнишечий испуганный голос спросил:
— Кто стучится?
Долго отпирал ворота. Мимо парнишки, младшего Голощекина, держащего за ошейник тяжелого волкодава, прошли во двор, и Каромцев, не оборачиваясь, сказал:
— Привяжи собаку и зови отца.
— Отец на заимку поехал. К Марии с Яковом.
— Неси ключи от амбара.
— От завозни тоже? — спросил парнишка и, не получив ответа, стал привязывать собаку, потом побежал в дом.
Вскоре он вышел, и за ним в колыхающемся свете лучины показались старуха Голощекина, старший сын и невестка. Они так и остались в сенях, потом лучина погасла, но их присутствие было очень заметно, и это тревожило, как засада. Загремели замки завозни, взвыл низкий старушечий голос, и отзывчиво, истово присоединился к ее плачу вой собаки. Когда Каромцев с керосиновой лампой в руке, которую с особенной услужливостью протянул ему младший Голощекин, вошел в завозню, он услыхал успокаивающий голос старшего сына (завозня соединена была с сенями):
— Да не плачьте, маманя. Неужль последнее заберут? — И была в его голосе радостно вибрирующая ложь.
В завозне, в глубоком ларе, была пшеница — семена, видно, их и не думали скрывать. Затем осмотрен был амбар, там стояли два мешка ржи, мешок проса, в углу, огороженном досками, засыпан был овес.
— Больше смотреть не будете? — спросил младший Голощекин и, не получив ответа, погасил лампу.
Они молча пошли со двора. Старший сын Голощекина крикнул:
— Как возвернется, передам отцу — мол, приходили. Али не передавать?
Никто ему не ответил. Когда отъехали от дома, Каромцев велел остановить лошадь.
— Что, братики, на заимку поедем или поближе куда?
Нестеров сказал:
— Ометы-то голощекинские возле Михайловских лесов, — на что Каромцев решительно ответил:
— Вот туда и поедем.
С рассветом они остановились на закрайке леса возле разворошенного омета, большая куча зерна никем вроде не была тронута. Они обошли омет кругом, Хемет кнутовищем потыкал в солому — больше зерна не было. Потом они поехали дальше и нашли еще несколько ометов. Пока разрывали один за другим (везде было спрятано зерно), совсем рассвело.
— Ну, ясно, кажись, — сказал Каромцев. — Пригоните пяток подвод и все до зернышка свезите в амбар коммуны. Они отъехали версты, может, за две, когда увидели — там, где только что они были, высоко полыхало пламя. Хемет круто развернул лошадь и махнул над нею кнутом.
В дыму, подсвеченном огнем, они увидели, как бежит Голощекин в лес, придерживая одною рукой притороченный к боку чайник, а другою держа прерывисто блещущий тесак.
— Стой, Голощекин! — закричал Каромцев, соскакивая с ходка. — Ложись!
Он вбежал в полосу дыма и, хлебая горечь дыма и холодный воздух утра, рвался вперед, где мелькала скачущая спина Голощекина, и чуял, что кто-то бежит рядом, нога в ногу. Он настиг Голощекина в чаще, и пальцы его уже цапали туго обтянувший спину материал, и тут Голощекин повалился, громко, почти с визгом дыша. В тот момент, когда Каромцев готов был упасть на Голощекина, он увидел близко перед глазами тесак и то, как рука, державшая тесак, оказалась перехваченной другой рукой.
Каромцев пережил скоротечное помутнение в голове и, когда полегче стало, оглянувшись, увидел, что Хемет держит в руке тесак, оглядывая его на свете поднявшегося солнца и цокая языком то ли от восхищения, то ли от негодования.
Они выехали из села в тот же день, точнее, в то же утро, не позавтракав, не дождавшись, пока вернутся подводы, посланные Нестеровым за найденным зерном.
С полчаса, наверно, прошло, когда вдруг Каромцев спросил:
— Постой-ка! А где… мальчонка?
И Хемет, не потрясенный, не злой, вот только, может быть, задумчивее, чем прежде, ответил:
— Убежал. — И ни слова больше.
Хемет был так потрясен погоней и схваткой, что, вернувшись во дворик к бабушке Лизавете и не застав сынишку, не сразу понял всей серьезности этой потери. Ведь вчера еще мальчонка был здесь, не мог он за одну ночь кануть бесследно, ведь он наверняка шагает сейчас по дороге в город, и они еще могут догнать его! И вот он всматривался в даль дороги, внешне совсем спокойный и почти уверенный в том, что, прежде чем они проедут половину пути, догонят беглеца.
Тут Каромцев проговорил тихим голосом:
— Спасибо… Я хочу сказать, что кабы ты не перехватил ему руку…
А Хемет, будто потревоженный не смыслом слов, а только звуком, нарочито весело проговорил:
— Я думаю, он бы все равно убежал. И не только сбежал, но еще окрутил бы меня самого вожжами.
Он рассмеялся и стал громко погонять коня. Ему не хотелось разговаривать. Он как бы удивлялся тому, что мог ведь и не поехать с Каромцевым ночью, но поехал. Но чем больше он думал об этом, тем понятнее становилось ему, что не поехать он не мог, что он связал себя с этим неукротимым комиссаром не просто договором о работе, но долгом. Для него, человека неподневольного и гордого, эта связь была тягостна, но он скорей бы умер, чем показал это Каромцеву.
«Его надо искать в городе, — думал Хемет, подъезжая в сумерках к своему дому. — Уж он постарается удрать подальше от волостного приюта — в город, на станцию. Этих маленьких бродяг манят поезда».
Лошадь остановилась у ворот, тихо заржала. Он бросил вожжи и, спрыгнув с ходка, пошел стучать. Двор за высоким забором безмолвствовал, и он поднял кнутовище, чтобы постучать еще. И тут его как осенило: ведь не взлаяла собака, темны окна, а сумерки только пали. Он осторожно,