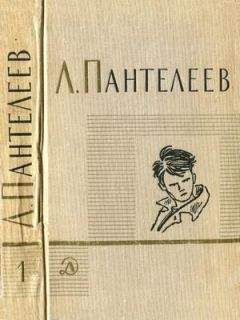. . . . .
Екатерининский сквер. Мимо памятника Екатерине проходит супружеская пара средних лет.
Она:
Вон, смотри, у нее в руках… как это называется? Вымпел?
— Какой вымпел?!! Не вымпел, а скиптер.
— Ах, да, скиптер.
. . . . .
Сижу в поликлинике Стоматологического института. Санитарка или сестра:
— Вы к кому сидите?
— Я сижу к Нине Васильевне Пластининой.
Песатель!
А как же иначе скажешь.
. . . . .
На улице маленькая девочка сделала пи-пи на руках у матери.
Мать — с возмущением:
— Ты что же не предупреждаешь? Разве можно так — без всякого предупреждения?!
. . . . .
Пришел в сумерках к тете Тэне. Она работает, шьет на машинке.
— Темно, тетя Тэна! Почему вы электричество не включите?
— Не могу, Лешенька.
— Как? Почему не можете?
— Да так уж я положила. Принцип у меня такой. Пока пять окон во флигеле напротив не зажжется — и я не зажигаю.
А глаза у нее больные. Закапывает пилокарпин.
. . . . .
Из рассказов тети Тэны.
Онуша (Онуфрий). Веселый мужичок. Работал возчиком у Хлудовых (прядильные фабрики). Очень любил птиц. И птицы его тоже.
Везет, бывало, товар. Насыплет на повозку — зерна, крошек, баранок… А птицы — за ним летят, всю дорогу так и кружатся над повозкой. А на дуге еще алые ленты…
. . . . .
Добрый ум и умное сердце. Быть по-умному добрым. Только дли этого и поставлена голова на плечах.
. . . . .
На Невском у Сада отдыха — очень хороший, кажется пахомовский, плакат: мужчины, женщины и подростки все с медалями «За оборону Ленинграда». Кисти, ведра, лопаты. И стихи:
Друзья, с Урала иль с Алтая,
Откуда б ни вернулись вы —
Закон —
на берегах Невы
Работать рук не покладая!
. . . . .
Под моим окном сидит, дежурит дворничиха. Ночью — какой-то шум, голоса. Оторвался от работы, прислушался. Звонкий, обиженный мужской голос:
— Вы совесть имейте свою… Начальник подходит, а вы отвернулись!
«Начальник», находящийся в состоянии так называемого административного восторга, по-видимому, квартальный. Молодой, недавно назначенный.
Пауза.
— Вот погодите, я завтра Сидорову доложу…
Пауза.
— Начальник подходит, а она сидит!
Дворничиха молчит упорно.
— Вы можете что-нибудь сказать, когда начальник подходит?!
— А чего я вам должна сказать? — отвечает она наконец довольно-таки дерзко.
— Совесть надо иметь, вот что я вам должен сказать! Все-таки — начальник подходит, а она — отвернулась.
. . . . .
Девятилетний Витя Кафтанников записал в телефонную книжку:
«Кинотятор Художественный».
. . . . .
Он же, когда заговорили о котятах, сказал со вздохом про кота Рыжего:
— Наш Рыжий — старая дева…
. . . . .
В сборнике «Фольклор советской Карелии» записана такая «солдатская поговорка»:
«Трус и паникер — врагу партнер».
. . . . .
Середина мая. Острова, да и вся Петроградская сторона вместе с ними насквозь пропахли корюшкой. Корюшкой пахнет на улицах, на мостах, в магазинах, в трамвае, в автобусе, в аптеке, даже в церкви — в Князь-Владимирском соборе у Тучкова моста.
. . . . .
Между Новой Деревней и Елагиным островом на середине Большой Невки рыбаки выбирают из невода рыбу. Даже издали, с берега видно, как бурлит и кипит в квадратной лучинной корзине живое серебро…
. . . . .
— Смотри, какое облако. Вылитый бык. Только рога и хвост немножко подрисовать.
— С этого, дружок, началось искусство живописи.
. . . . .
«Нигде не думается так хорошо, спокойно и бесстрашно, как на кладбище».
Л. Авилова — в воспоминаниях о Чехове
. . . . .
Из рассказов тети Тэны:
— Уж как раньше офицеры и генералы над нижними чинами измывались — я сама видела, своими глазами. Ходили мы на масляной «на горы» — на Марсово поле. Идет юнкер или вольноопределяющийся, уж я не помню, с барышней. Идут хорошо, веселые такие, прилично, под ручку. Юнкер этот папиросу курит.
А генерал или полковник к нему подошел, — своими глазами видела, — папироску у него изо рта вырвал и — по щекам — в самые щеки — горячей папиросой — тырк… тырк… тырк…
Даже искры посыпались. Я сама, своими глазами видела!
. . . . .
Ленинградский трамвай. Два мальчика — с удочками, с жестяными банками и прочим рыболовным снаряжением едут на задней площадке прицепного вагона. Едут честь честью — с билетами. Чем дальше, тем больше пустеет вагон, тем сильнее подскакивает он на стрелках и на стыках, тем быстрее ход его и грохот колес и мотора. Трамвай выходит из черты города, идет по окраине, вдоль Невы. Булыжная мостовая, поросшая травой. Дощатые заборы. Свежий речной ветер.
На остановке один из мальчиков не выдерживает, выходит из вагона и, пользуясь свободой, отсутствием милиционеров и дремотным состоянием кондукторши, устраивается на «колбасе». А проехав две станции и в полную меру насладившись прелестью этого острого ощущения, он возвращается в вагон — к своему приятелю, в скучное, неинтересное состояние платного пассажира.
. . . . .
Эпиграф:
«У этого поезда плакать не принято. Штраф».
Конст. Симонов
. . . . .
Фридриху Ницше, предтече Геббельса, были ненавистны «лавочники, христиане, коровы, женщины, англичане и прочие демократы».
. . . . .
Идешь к врачу. Сейчас он, этот старый петербургский немец, полезет тебе в горло и в нос. Идешь с отвращением, испытывая что-то вроде озноба. И вот попадаешь на лестницу этого старого василеостровского дома и забываешь о том, что тебе предстоит. У каждой двери старомодный звонок — с рычагом. Нажимаешь кнопку — не звенит. Тогда дергаешь эту милую железную штуку.
Попадаешь в квартиру. Какие низкие потолки. Какие славные пузатенькие кафельные печи. Синие (а не белые) двери. Высокий, худой, бритоголовый человек. Очень любезен, мил, хотя сообщает тебе вещи не очень приятные. И жена — милая седая дама.
Говорю:
— Как у вас славно.
— Еще бы! Нашему дому двести лет!
— Да что вы? — говорю. — Сейчас выйду и поклонюсь ему.
. . . . .
Интересно, как рождается, придумывается, подыскивается и постепенно обтесывается, уминается слово даже у одного и того же автора.
В декабре 1927 года А. В. Луначарский в корреспонденции из Женевы писал в «Правду»:
«„Общественный глаз“, представленный многочисленными фотографами и кинематографами…» и так далее.
В апреле 1929 года из Женевы же:
«Суетятся фотографы и кинолюди»…
Позже:
«Нас фотографировали, кинематографировали»…
. . . . .
Середина мая. Волшебный петербургский вечер.
Днем было жарко, 22° на солнце. Вечером поехал на Каменный остров. Автобус завез меня дальше, чем нужно было, — куда-то к Яхт-клубу, кажется. К Стрелке.
Все прекрасно, сказочно. Светло, сизая дымка, в окнах — луна и электрический свет, похожий на лунный. Особенное, только в Питере, над Невой, наблюдаемое великолепие, пышное нагромождение облаков — золото, сизая голубизна, пурпур, лебединый пух, маленькие черные обрывки туч… Все в мареве — дворцы, купола, трубы, колокольни, мосты… Только вода — в Неве, в каналах и в «канавках» — черная, лаково блестящая, отражающая в себе и луну, и свет фонарей, и редкие высокие звезды… В этом мареве белой петербургской ночи — неповторимо прекрасно все — даже рубища, даже руины, даже безобразные, облупленные окраинные дома-комоды постройки тридцатых годов.
А за городом — на Островах — много воды, свежая, робкая прозелень на деревьях. Необозримые просторы — кажется, что видишь покатость земли.
Стоит у причала пароход. В другое время и в другом месте — ничего особенного как будто. А тут и этот скромный грузовой пароходишко показался прекрасным. Белая ночь как-то особенно подчеркивает, сгущает, делает сочнее краски. Глянцевито-черная густая окраска бортов, ярко-красный вытянутый прямоугольник ниже ватерлинии. Изящная форма, изящная посадка его на водной глади.
Не пил, а чувствую себя до сих пор пьяным. Часов в одиннадцать пошел дождь. И под дождем хорошо. Темно, но и темень особенная, северная, ленинградская. Зрение обостряется, как у пьяного.
Еду обратно в город. В полупустом автобусе девушка читает газету. На мосту нас обгоняет трамвай. Зеленая искра. Зеленая вспышка на белом газетном листе. И это тоже радует.
. . . . .
Чехов в прекрасном письме к брату Александру:
«Дети-святы и чисты. Даже у разбойников и крокодилов они состоят в ангельском чине. Сами мы можем лезть в какую угодно яму, но их должны окутывать в атмосферу, приличную их чину»…
. . . . .
Там же:
«Лучше быть жертвой, чем палачом».
. . . . .
«Катя».
Кухарка у Пурышевых — олонецкая. Послана была в сад — позвать Аркапура к чаю.