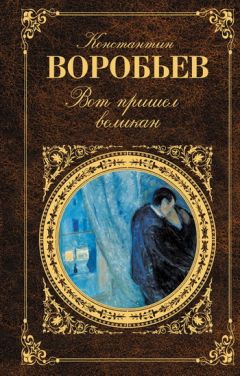— Да-да, — подтвердил он. — Так кому вы звонили?
Я поправил подушку, улегся на спину и прикрыл веки. Следователь ждал, тогда я вслух предположил, что новая милицейская форма будет элегантнее прежней и что зимой в ней, надо думать, будет тепло, а летом прохладно. Он молчал и ждал. Я наблюдал за ним сквозь ресницы, и он виделся мне размыто и дрожаще, как за отдаленным полевым маревом. Я до сих пор не могу постичь, почему бы мне не ответить тогда на его вопрос неправдой — ну, скажем, звонил в справочное бюро вокзала, чтобы узнать, когда идет поезд на Мурманск. Номер телефона справочного бюро? Пожалуйста, я знал его: шесть одиннадцать сорок четыре, но из-за какой-то запретной преграды в себе я не мог сказать неправду и молчал, и следователь молчал тоже.
— Почему вы не отвечаете на вопрос? — изнуренно спросил он и налил в стакан воды из графина — полный, с краями. Я подождал, пока он напился, и сказал, что звонил одной замужней женщине. На этом месте мы застряли окончательно, потому что следователю обязательно нужно было знать, кто эта женщина и «по какому вопросу» я ей звонил.
— По любовному, что ли? — на каком-то гарантийном для меня полушепоте раздраженно подсказал он вечность сгодя, и я кивнул. — Ну так бы и показывал, а то уперся, как… Это ведь к делу не относится, понятно?
Он, наверно, засиделся в уголовном розыске и привык не доверять ни правому, ни виноватому, но после такого моего признания дело с допросом у нас почему-то пошло быстрее. Я «по возможности точно показал» количество напавших на меня бандитов, их рост и одежду и не мог понять, какая разница в том, на правых или левых рукавах у них были красные повязки.
— Большая, — сказал следователь. — Теперь точно показывай, во что был одет сам.
Я показал, но расцветку носков забыл. Не запомнил я и купюры тех четырнадцати рублей, что дала мне официантка кафе в сдачу с двадцатипятирублевки. Под конец допроса следователь извлек из своей полевой сумки длинный, в каких-то бурых потеках дамский чулок с засунутым в него свинцовым яйцом.
— Это твое или нет?
— А что это? — спросил я.
— Обнаружено под тобой, — сказал он. От чулка несло мерзкой падальной вонью, и меня стошнило.
Оказывается, далеко не все равно, чем вам проламывают голову. Я, например, безразлично отнесся бы к известию о том, что меня ударили булыжником, скажем. Или шкворнем. Или там другим каким-либо «тупым предметом», поскольку тут все равно уже ничего нельзя поделать. Но это гнусное свинцовое яйцо, заправленное в пакостный бабий чулок сорокового, видать, размера, вызывало во мне отвращение, бессильную ярость и стыд…
Как и говорил Борис Рафаилович, часы в моем затылке перестали тикать через неделю, и тетя Маня собралась переселять меня в общую палату. Она напомнила о своей готовности «отбить телеграмму моим родным», и тогда я попросил позвонить Лозинской.
— Часов в шесть вечера, — сказал я. — Зовут Иреной Михайловной, запомнили? Если к телефону подойдет мужчина, то ничего не говорите. Положите трубку, и все. Ладно?
— Ну-ну, — угасше сказала она. — И что ей передать?
— Что, мол, Антон Павлович Кержун лежит в больнице… В такой-то палате, на таком-то этаже.
— Ну-ну… А чтоб, значит, пришла, не намекать?
— Heт, — сказал я. — Большое вам спасибо!
— Поругамши, что ль?
Тетя Маня спросила это, уходя уже, с гневом не ко мне, и я поверил, что Лозинская непременно придет, потому что мало ли что ей там скажут, и пусть скажут! Что я, не сын родины? Сволочи! Бросили тут одного…
Она пришла в начале седьмого, — я увидел ее еще в коридоре через открывшуюся дверь, притворенную за ней тетей Маней. Ирена Михайловна как-то косо и полубоком пошла по палате к окну, подальше минуя стул и тумбочку, смятенно глядя на мою голову. Я привстал на койке и сказал, что ни в чем не виноват.
— Мне все известно, не надо разговаривать, — перебила она, уйдя в противоположный угол, за тумбочку.
— Я не ввязывался, а только позвонил вам, чтобы проститься, понимаете? — сказал я. Она молча наклонила голову, избегая моих глаз своими.
— За весь тот вечер я выпил лишь три бутылки тракии. Это красное сухое вино почти без градусов, — объяснил я.
— Я знаю, это очень хорошее вино, только, пожалуйста, не разговаривайте! — сказала она.
— Но я в самом деле не ввязывался, — сказал я.
Она веряще кивнула, и мы впервые встретились глазами.
— Они меня каким-то свинцовым кругляшом… в женском грязном чулке, вы представляете? — сказал я.
— Господи! Я не хочу! Не надо об этом говорить!
Она держала сцепленные руки у подбородка, и глаза у нее были какие-то провальные, немигающие, и косящие к переносью.
— Очень больно?
— Нет, — сказал я. — Вам нельзя… подойти поближе?
Если бы она не взглянула тогда с опасением на дверь, я бы не решился назвать ее по имени, без отчества, но она трижды, пока медленно шла ко мне по палате, взглядывала на дверь, и я трижды назвал ее имя.
— Почему же вы… — сказала она и запнулась, потому что опять оглянулась на дверь.
— Что? — спросил я.
— Почему не попросили сообщить мне давно, сразу?
— Разве ты пришла бы? — сказал я и зажмурился.
Она остановилась у моего изголовья и молчала, и я ее не видел.
— Пришла бы или нет?
— Не знаю… не с этим. У меня этого нет к вам… Не должно быть! Разве вы сами не понимаете?
Я открыл глаза и сказал, чтобы она ушла.
— Но вам, может быть, что-то надо? Вам дают тут есть и… все?
— Дают есть и все-все. До свиданья, — сказал я ей и натянул на лицо простыню. Она тогда осторожно и невесомо присела на край моей койки и своим прежним, редактрисским тоном спросила, сколько мне лет. Я сказал «тлидцать тли», и она засмеялась и отогнула край простыни с моих глаз.
— Слушайте сюда. В ваши «тлидцать тли» надо соображать, что замужней женщине, у которой дочери пошел одиннадцатый год, нельзя звонить по ночам и…
— Если б ты знала, что я хотел тебе сказать! — перебил я и не стал зажмуриваться.
— Что вы мне хотелис казать? Вы с ума сошли? Вы же видели моего мужа… Да и не в этом дело!
— Ты меня совсем-совсем не…
— Замолчи! Замолчи! — истерично, шепотом крикнула она, а я схватил ее руку и прижал к своей щеке, и она до самого ухода не отняла ее и сидела как в столбняке — прямо, напряженно, дыша раскрытым ртом, как птица в жару…
Когда она ушла, тетя Маня заглянула в дверь и спросила строже, чем следователь:
— Ну?
— Большое вам спасибо, — сказал я.
— Помирились?
Тогда был какой-то библейский свет вечера в мире за окном и в моей палате, — он был густо-голубой, чуть прореянный ранним лунным током, и в этом свете мягко увязали и глушились шумы города и непроходяще стоял чистый и радостный запах меда. Я лежал и благодарно думал, как по выходе отсюда куплю что-нибудь тете Мане в подарок, потому что я любил ее, и что-нибудь Борису Рафаиловичу, потому что его я тоже любил, и тем двум врачихам, которые вошли тогда с ним в мою палату, и надо обязательно купить что-то кофту, может? — бабке Звукарихе, потом еще — что-нибудь хозяйственное — той своей соседке, которой я отдал тогда рыбу, и хорошо бы еще раз повстречать того рыжего владельца «Запорожца» — у него, возможно, нет гидравлического домкрата, а у меня их два, и почему бы не отдать ребятишкам из нашего дома стартовый пистолет, зря ведь валяется только… Мне подумалось, а что было бы, если бы в ту ночь со мной оказался этот пистолет? У него форма и звук выстрела браунинга. Стрелять нужно было бы трижды, в ветки каштана, и тогда эти четверо в беретиках пошли бы в трех шагах впереди меня, заложив руки назад. Да, конечно, пошли бы… И я сейчас был бы не здесь, а в Мурманске, конечно, был бы уже, и поэтому нельзя знать, хорошо или плохо, что со мной тогда не было стартового пистолета.
На утреннем обходе Борис Рафаилович, как никогда до этого, остался доволен состоянием моего затылка и собой, но я заметил, что ему немного беспокойно, — он как бы торопился в словах и жестах, не желая, наверное, оставлять мне паузы для какого-нибудь вопроса сродни тому, когда я ворожил пальцами над своим лбом. Это его опасение — как бы я не стал рефлектировать или как это там у них называется — было совершенно напрасным: я чувствовал себя отлично, даже лучше, чем прежде, хотя причина этому была совсем не та, что приводил он из истории мировой хирургии.
Этот день был очень длинным, и под конец его я потерял веру в человечество. Крушение моего вечернего и утреннего мира началось с семи часов вечера, и к восьми его обломки полностью заволок прах лютой тоски и обиды. А в половине девятого Лозинская наконец постучалась в дверь, — я сразу догадался, что это она: стук был тревожный и ноготной, как побег застигнутого кролика. Мы даже не поздоровались, и нам почему-то нельзя было остановить глаза друг на друге, — наши глаза просто прятались сами от себя. Ей совсем не надо было приносить этот громадный нелепый пакет в серой оберточной бумаге. Он оттягивал ей согнутую руку, и она не знала, что с ним делать, я не мог ни принять его у ней, ни указать ему место. Она сама догадалась примоститься на стул возле тумбочки, оставив пакет у себя на коленях. Я сидел на койке и тщательно расправлял кромку простыни.