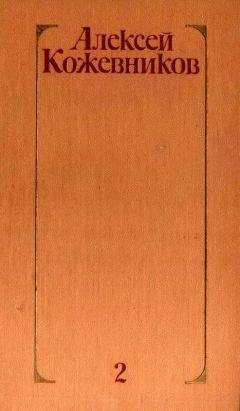— Вот дьявол! — выругался Боргояков, оглядывая свою одежду, излохмаченную жеребцом. — Видали такого?
— Видали… — Смеляков тряхнул своими лохмотьями. — Наши не хуже ваших. — И засмеялся.
Но Боргоякова и Аннычах не развеселила эта шутка. Трое не могли управиться с одним жеребцом. Чего тут веселого? До смеха ли, когда Вьюга и Комета вот-вот начнут жеребиться! Что сделает в таком случае Абакан — неизвестно. А вдруг он убьет жеребят? Среди косячников бывали детоубийцы.
Жеребца решили выгнать из косяка, пока он не успел натворить бед, но, уже зная его особенную неприязнь к конным, пошли на него пешими. Жеребец перебегал с места на место, перегоняя с собой и Вьюгу. Пробившись, бесплодно с час, встревожив весь косяк, табунщики убедились, что раньше, чем удастся отогнать жеребца, они замучают тяжелую кобылицу. Они прекратили погоню и начали советоваться.
— Заарканить, — сказал Смеляков, бойко встряхнув плечами: чего, мол, тут раздумывать.
— Вот спасибо. А мы и не знали. — Аннычах искоса глянула на табунщика, прикинула на глазок, много ли в нем жизни, подумала: «Эх ты, аршин с шапкой», — и досказала сердито: — Аркань, если надоело жить. Это тебе не стригунки.
— Не запугаешь, — разошелся Смеляков. При косяке он работал впервые, до того все время табунил годовичков, двухлеток и не знал, что легче переарканить целый табун таких, чем одного косячника.
— Ладно, потом заарканишь, а теперь поезжай в Главный стан, к Урсанаху, — распорядилась Аннычах.
Абакан продолжал ходить около Вьюги и был очень заботлив: чесал ей зубами холку, загривок, отгонял подходивших кобылиц, упрямо добиваясь, чтобы вокруг нее было пусто. Когда Боргояков попробовал заехать в эту запретную зону, жеребец со всех ног кинулся на него, а повернул табунщик обратно — и жеребец тотчас прекратил погоню.
Вьюга зашла во впадину меж двух курганов, немного покопытила и легла. Абакан начал больше расширять запретный круг, который почему-то показался ему узок. Ощерив зубы, откинув почти горизонтально хвост, как у птицы, он мчался по внутреннему краю косяка, отпугивая кобылиц. Теперь он был страшен и беспощаден; одну мешкотную кобылицу так цапнул за холку, что она сунулась на коленки. Раздвинув круг поперечником шагов в сотню, он вернулся к Вьюге и начал похаживать вокруг нее, чего-то выжидая и грозно поглядывая на других кобылиц.
Что делала Вьюга, табунщикам не было видно, иногда только вздымалась и затем быстро падала ее сильно вытянутая голова. Но пока жеребец находился на виду, они особенно не волновались. Если Вьюга рожает, с этим она справится одна. Только бы не впутывался Абакан.
Но вот жеребец спустился во впадинку. Табунщики поскакали к нему. Вьюга лежала на боку, как устроилась для родов, рядом с нею лежал мокрый жеребенок, и Абакан старательно его облизывал. Увидев непрошеных свидетелей, он весь дрогнул и сильно ляскнул зубами. Табунщики круто повернули назад и едва успели скрыться в гуще косяка, как жеребец огромным прыжком выскочил из впадины прямо через курган и пошел давать в бешеном галопе круг за кругом. Несдобровать бы тому, кто попался ему навстречу.
Он сделал кругов пять и, заслышав, что новорожденный подал голос, вернулся к нему.
Вместо того чтобы, ожеребившись, приласкать, накормить жеребенка, Вьюга — молодая первородящая кобылица — едва взглянула на него и, даже не отдохнув, торопливо встала и ушла. Табунщики называют таких «ушлыми». Первородящие нередко поступают так, вероятно потому, что материнские обязанности начинаются тяжелыми страданиями, а того, что после страданий будут радость и счастье, они еще не знают.
Косячник Абакан не ожидал, что Вьюга учинит такое коварство. Если встала и немного отошла — это в порядке вещей. Но кобылица уходила дальше и дальше. Абакан тревожно заржал. Она не отозвалась, не оглянулась. Он заржал требовательно, грозно. Все равно уходила. Тогда он оставил жеребенка и кинулся за матерью.
Бездетные кобылицы, по мере того как Абакан удалялся от жеребенка, все смелей подступали к нему. Боргояков и Аннычах подскакали выручать брошенного малютку, который делал первые неловкие попытки приподняться. Заслонив его с двух сторон, они замахали на подступающих кобылиц кнутами. Те не решались лезть под кнуты, но и не расходились. Они стояли плотным, тесным кругом, вытянув к жеребенку головы и жадно вдыхая милый их материнскому сердцу детский запах.
— Ну и влипли же мы! — сказал Боргояков.
— Не бывало, что ли… — отозвалась Аннычах.
Да, бывало, и Аннычах знала, как действовать в этом случае: любопытных кобылиц оттеснить подальше, затем пригнать ушлую; если она не захочет миром кормить своего дитенка, то принудить силой.
— А жеребец? — напомнил Боргояков.
Как действительно поступит Абакан? Убежал за ушлой и позабыл про жеребенка… Самое лучшее, если бы так. А вдруг вспомнит, вернется?
Он вспомнил. Еще издали табунщики услышали его тяжелый скок и громкий храп. Любопытные кобылицы прянули от жеребенка кто куда, будто их подхватило вихрем. Запретный круг вновь опустел. И в нем показался разъяренный жеребец. С одного взгляда табунщики поняли, что скачет он не с добром, а в бой. У него был именно тот боевой вид, с каким жеребец налетает на смертельного врага: шея выгнута колесом, зубы оскалены, уши плотно прижаты, хвост трубой, грива встопорщена, тело — сразу и железно-тяжелое и стремительно-крылатое, по нему ходят судороги. Остановить Абакана могла бы только пуля.
— Беги! — крикнула Аннычах Боргоякову.
— А ты?
— Беги, беги! — Но тут же спохватилась: — Нет, постой!
Нехорошо отступать перед конем: он всегда понимает это как свое превосходство над табунщиком, как победу, теряет к нему уважение и послушание. Но и затевать опасную драку с Абаканом незачем: жеребенку он не угрожает. Как избежать драки и в то же время сохранить к себе уважение коня? Аннычах решилась на опасный маневр — не отступать перед конем, а скакать навстречу ему, не вполне навстречу, а несколько в стороны — один вправо, другой влево.
Когда они поравнялись с жеребцом, ему и до Аннычах и до Боргоякова было скачков по десять.
Видя, что всадники едут не на него, а стороной, жеребец только глянул на них свирепо и, не останавливаясь, промчался к жеребенку. Маневр удался. Табунщики повернули коней, остановились и наблюдали за Абаканом.
Он снова облизал жеребенка, выражая ласку и радость, что нашел его живым, потом начал осторожно подталкивать носом в грудь, под бока, в задок, побуждая вставать. Подталкивая, ржал, сдерживая, как мог, свой громоподобный голос. Жеребенок скоро поднялся и тоже заржал, неуверенно, тоненько, с печалью. Абакан ответил ему на радостях в полный голос. От такого приветствия жеребенок сильно вздрогнул, заржал уже совсем слезно, потом ткнулся головой в пах жеребцу, не догадываясь, что защиты просит у того самого зверя, который кричит так страшно.
Под боком у Абакана жеребенок нашел тепло, надежную опору и задремал, стоя и во сне двигая губами, как сосут матку.
— Надо кормить, — волновалась Аннычах.
Вьюга бродила, опасливо сторонясь подруг, устало опустив голову с печальными, затуманенными глазами. Не успели у нее еще затихнуть родовые боли, как начались новые, в вымени. Сначала, когда Аннычах погнала ее, она шла смирно, но увидела Абакана, жеребенка и уперлась. Аннычах применила все: уговоры, угрозы, наконец, кнут, — кобылица бросалась из стороны в сторону, а вперед ни шагу. В ее представлении Абакан и жеребенок связались в одно с родовой болью, идти к ним — значило идти на новую муку.
— Ну и дура! — наградила ее Аннычах. — Вымя то, погляди, какое — готово лопнуть. Молоко скиснет ведь и тебе же ударит в голову. — Из вымени уже само собой сочилось молоко. — Разорвала бы такую негодницу.
Жеребенок проснулся и, обходя Абакана кругом, все тыкался ему в бока, в грудь, в ноги; тычась, ржал слезно и настойчиво, требовал, чтобы накормили. Жеребец находился в полной растерянности, он пробовал успокаивать жеребейка ржанием, чесал ему холку, спинку — не помогало, тот продолжал льнуть к нему и плакать.
— Влипли, влипли, — повторил Боргояков с некоторым торжеством, что оказался прав.
— Ну и радуйся! — буркнула сердито Аннычах.
— Да я не радуюсь.
— Молчи, не мешай. Поедем ловить ушлую, ей надо отдоить молоко.
— Будем арканить?
— За хвост не поймаешь.
— Чего ты сердишься? — упрекнул девушку Боргояков.
— А чего ты все бормочешь, не даешь подумать?
Вьюгу отогнали за край косяка, на простор. Разбухшее вымя мешало ей убегать, и Боргояков заарканил ее первым же броском. Когда она упала, Аннычах, не давая опомниться, спутала ей арканом ноги, затем подскочил Боргояков, навалился на шею; Аннычах же принялась выдаивать молоко.