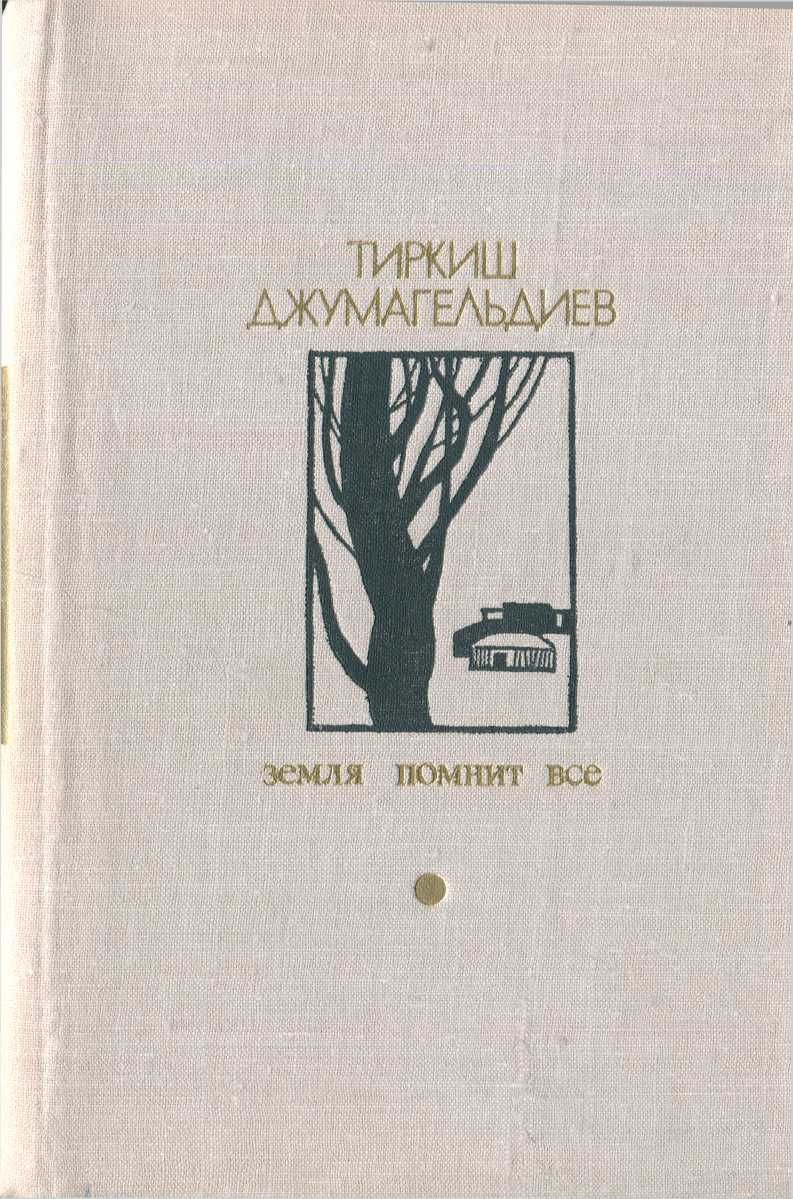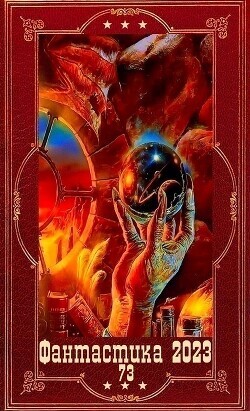показать, смешивая влияние и подражание. Творческое влияние происходит где-то в глубине, проникает в самую душу писателя, делается его второй природой и проявляется как-то по-своему, по-особому, не всегда заметно для невооруженного глаза…"
Добавим к этому: чем большей реалистической зрелости достигает в своем развитии национальная литература, чем выше, богаче, разностороннее и многограннее ее идейно-художественный опыт, тем меньше возможностей оставляет она для влияний прямых, непосредственных, хотя, разумеется, и не исключает их, не устраняет полностью. В современных же условиях интернационального единства и национального многообразия советской литературы, создаваемой на 76 языках народов СССР, все более возрастающую роль играет не одностороннее индивидуальное воздействие писателя на писателя, а теснящее его целостное воздействие манеры на манеру, стиля на стиль, традиции на традицию, — одним словом, литературы на литературу, что для каждой из них, большой или малой, древней или молодой, служит признаком не робкого ученичества, но активной самостоятельности.
В этом многостороннем и многоступенчатом, опосредствованном множеством переходных звеньев процессе каждое талантливое произведение, независимо от его национальной "прописки", обретает значение рубежа, критерия, стимула, ускоряющего общее движение. И чем крупнее, значительней талант писателя, вовлеченного в это движение, тем больше аналогий и сопряжений вызывает его творческий поиск.
К Тиркишу Джумагельдиеву сказанное относится самым прямым образом. Придя в литературу в начале 60-х годов с повестями "Компромисса не будет" и "Жена старшего брата", он на удивление быстро перестал быть молодым писателем, всего за десять — двенадцать лет выдвинулся в первые ряды современной туркменской прозы. Как ни молода она, без опоры на ее опыт, полнее и ярче всего закрепленный романами Берды Кербабаева, такое стремительное восхождение было бы невозможным. В равной мере бесспорно и то, что для туркменского писателя не прошел бесследно как исторический, так и современный идейно-художественный опыт среднеазиатской прозы в целом, воспринятый — будь то творчество Мухтара Ауэзова или Абдуллы Каххара — в его вершинных достижениях. Среди таких вершин — исключительный по выявлению реалистических потенций ранее бесписьменных литератур феномен творческого взлета Чингиза Айтматова, чьим повестям, начиная от "Джамили" и кончая последними — "Белый пароход", "Ранние журавли", "Пегий пес, бегущий краем моря", — суждено было обозначить качественно новую ступень в развитии и обогащении реализма, проложить и закрепить новые повествовательные традиции, которым каждый по-своему близки, скажем, и Тимур Пулатов в Узбекистане, и Фазлиддин Мухаммадиев в Таджикистане, и Абиш Кекильбаев в Казахстане. Сошлемся, наконец, и на так называемую "молодежную повесть" в русской советской прозе начала 60-х годов и ее нынешнюю "деревенскую прозу", которым — в первом случае в пору дебютов, во втором — в настоящее время — также в какой-то мере сопредельно творчество туркменского писателя.
Но в том-то и дело, что, как ни много возможных точек соприкосновения, видимых стыков нет ни одного. Все претворилось по-своему, переплавилось в свой голос и интонацию, в свою манеру и стиль.
Взять, к примеру, "Следы в пустыне" — одну из ранних повестей Тиркиша Джумагельдиева. Она вроде бы и "молодежная", если говорить об обостренном интересе писателя к становлению характера, духовного мира молодого современника, который, подобно многим своим литературным сверстникам тех лет, проходит первое испытание жизнью в далекой экспедиции. И в то же время не совсем "молодежная", если об образном строе ее судить не только по наличию авторского "я", "каноничного" для типа повести, сложившегося в те же 60-е годы на страницах "Юности".
Что же выделяет ее из общего потока "молодежной повести" 60-х годов? Прежде всего драматическое напряжение повествования, тяготение его к романтической патетике и поэтике, оригинальное композиционное решение. "Следы в пустыне" — повесть в новеллах, и эта избранная писателем форма помогла ему шире раздвинуть временные границы сюжета, усилить динамику действия, соотнести в едином повествовательном русле историческое прошлое Каракумов и их нынешний день. Давние легенды, вовлеченные в повествование, сплетаются с современной былью, словно бы на глазах оживляя "немые барханы". Вековое безмолвие их отступает перед многоголосием жизни, вчерашней и сегодняшней, освященной неистребимым человеческим стремлением к высоким гуманистическим идеалам. К ним одинаково были устремлены и плененный калтаманами "интеллигент-разночинец российский", "скромный русский ученый, с университетской скамьи мечтавший, как исправить жестокую несправедливость природы", и вызволивший его из беды туркменский пастух, "оборванный, обгорелый на солнце и горячем ветру человек с непонятной речью, вольный, неприхотливый сын пустыни". Будто высеченные из камня — такова достигнутая писателем сила изобразительности, — "они стоят лицом к лицу. Каждый из них в иноплеменнике видит человека. Это слово звучит по-разному на языке того и другого, но все равно…"
Нельзя не сказать, однако, что, стремясь к экономному, динамичному повествованию, писатель облегчил и упростил себе задачу тем именно, что поставил героя-рассказчика не в привычные для него обстоятельства повседневной жизни, а в ситуацию, исключительную по остроте и драматизму. В раскрытии этой исключительной ситуации, далее, он не всегда сумел устоять перед соблазном искусственного нагнетения внешнего драматизма, тотчас же и отозвавшегося на стилистике повести обилием романтических трюизмов, столь же наивных, сколь и претенциозных. "Натруженное невзгодами" сердце, то занывшее в тоске, то запылавшее гневом, непременно "смертельные" тоска и отчаянье, неизменно "леденящая душу" картина бурана — все эти речевые излишества дурной книжности свидетельствовали скорее б романтической импульсивности, чем о глубине реалистического постижения характера, психологически достоверном раскрытии внутреннего состояния души.
Перед молодым прозаиком возникла необходимость поиска таких емких форм эпического повествования, в которых невыдуманный драматизм судеб и событий органически сочетался бы с аналитической основательностью их исследования. К этому Тиркиш Джумагельдиев пришел в повести "Спор" — самом зрелом его произведении из числа созданных в 60-е годы.
Драматизм сюжета в ней также исключителен по своему накалу. Но это уже не исключительность жизненного случая, как то было в повести "Следы в пустыне", а исключительность самого времени, которое непримиримо сталкивает героев писателя. Сталкивает в поединке спора, чтобы утвердить свою высшую гуманную правду как правду революции, Октября, ленинских идей.
Историко-революционная тема в советской литературе никогда не была темой календарной. Извечное стремление нашей многонациональной прозы раскрыть судьбу человеческую в ее неотделимости от судьбы народной, увидеть жизненный путь современного Героя необходимым звеном в единой цепи исторического процесса неизменно обращает исследовательское внимание художников к тем исходным рубежам советской истории, каким для каждого из народов страны стали овеянные высокой романтикой и суровым героизмом годы Октябрьской революции и гражданской войны. Истекшие десятилетия укрупнили масштабы давних событий, полнее выявили их всемирно-историческое значение, их общегуманистический — социальный и нравственный — смысл. Не потому ли и непримиримый идейный спор двух героев, определивший у Т. Джумагельдиева самое сюжетное развитие повести, есть прежде всего