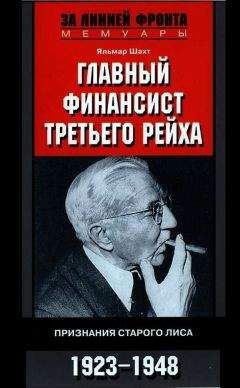Все же Черныш опасался: а вдруг мальчонка пожалуется, вдруг надоумят «добрые люди»? Тогда смотри да оглядывайся, из-за какого-то пустяка (подумаешь, ну и стегнул в шутку прутиком!) старые дела Черныша, тяжкие дела, меченные кровью, могли бы всплыть ненароком из ненадежного забвения и могли призвать самое страшное — судный час.
Проклиная в душе весь белый свет, ябедников соседей, сельсоветчиков, комсомольцев, милицию, строгие порядки, установленные рванью да голытьбой, Данила старался как-то задобрить Макарку, посмеивался и шутил, даже бросил ему однажды целковый, но малый насторожился, как волчонок, спрятался от хозяина в уголке двора, а дареного рубля будто и не заметил.
Макарке было двенадцать лет, Даниле — за сорок. Ни тот, ни другой никогда не читали политграмоты и не слушали в сельском клубе наезжих лекторов, и никто никогда не говорил им, что они — враги.
В жизни, однако, многое и не требует объяснений. Данила оглядывал свой земельный надел по-иному, чем на эту же ниву смотрел Макарка. И скот свой Данила поглаживал, пошлепывал в стойлах совсем по-иному, чем его пастух. И заботы у них были разные, и думы, хотя жили они под одной крышей.
Не нуждались в объяснениях и те чувства Данилы, что заставили его весной, в самую пору вскрытия злонравного Бейсуга, посылать батрачонка Макара в соседний хутор за реку. И дело-то было пустяковое — купить у заречного хуторянина табака самосада. Но мальчишка впервые пытался ослушаться, — он сказал, что опасно, что уже искрошился лед. Тогда Черныш стал медленно и молча снимать пояс. И это подействовало. Макарка пошел за Бейсуг. Пошел и не вернулся.
Его принесли заречные мужики лишь на следующее утро, и был он без кровинки в лице, в жару и в бреду. Только этого и недоставало Даниле — за безнадзорным сорванцом ходить, да за его бесшабашность на фельдшера тратиться! Накричал он в сердцах на глупого мальчишку и чуть было руку не поднял, но заречные вовремя остановили: пускай, мол, выдюжает, а тогда можно будет и проучить.
Черныш согласился (конечно, для виду): ладно, пускай на чужом даровом хлебе понежится. А утром, едва Макарка открыл глаза, хозяин указал ему сначала на икону, потом на дверь.
— Как видно, не судилось нам, любезный, хлеб-соль поровну делить да добрыми словами тешиться: вот тебе бог, а вот и порог, прощевай и послушайся моего совета: не встречайся мне больше никогда.
Придерживаясь за стену, Макарка с трудом добрался до двери. Его трясла лихорадка, и ноги подкашивались. Он прошептал чуть слышно:
— Я ли виноват, что лед тронулся?
— И никогда больше не встречайся, — повторил Данила. — Так, чтобы не быть беде.
Макарка осторожно спустился с крыльца и зажмурился от первого резкого солнца.
— Не знаю, — сказал он. — Ольгинская тут, близко. Может, еще и встретимся.
Почему-то эти его слова запомнились Чернышу. Не то чтобы сразу же поразили, но мысленно он их отметил и запомнил.
Бывает же и такое наваждение, что слово прицепится, как репей, и от него не отвязаться. С гражданской войны Даниле запомнилось пророчество старшего Мазая: «И моя отсеченная рука ляжет на весы правды». А теперь его сынишка накрепко вбил второй гвоздь. «Может, еще и встретимся». И сколько ни чертыхался Черныш, сколько ни посмеивался над самим собой, а слова маленького Макара все повторялись в памяти, и через месяцы, и даже через годы неожиданно возвращались, сверлили мозг.
Вопреки собственной воле, не признаваясь в том и самому себе, Данила ждал этой встречи, как неизбежного. Ждал — и дождался.
Но самое поразительное было в том, что и Макару запомнилась давняя минута их разлуки, а теперь, когда он вошел на подворье Черныша, рослый, самоуверенный, веселый парень, припомнились именно те слова, и он повторил их спокойно и веско:
— Значит, верно было загадано, что, может, и увидимся?
Он был не один: с ним — милиционер Василий Новиков, сельсоветчик Андрей Белан и статный белокурый паренек — секретарь комсомола, известный на всю округу, не раз уже стреляный из-за угла, бесстрашный бич кулачья Сашко Гнучий.
— Все понятно, — молвил Черныш невозмутимо, хотя дыхание ему перехватило и багровые пятна проступили на скулах. — Ты, Макарка, за старое считаться пришел? А говорят, в газетах ваших было прописано, что месть — дело нестоящее, паскудное?
Спутники Макара засмеялись, а Сашко Гнучий, не скрывая удивления, сказал:
— Вот какие перемены, значится! Ты даже газетами стал интересоваться, рак-отшельник!
— Нету у вас такого права, — заявил Черныш, — чтобы по чужим дворам шастать без разрешения. Ежели с обыском явились, бумагу обязаны показать.
— Имеется такая бумага, не беспокойся! — усмехнулся Макар. — Касательно давней обиды — тоже не беспокойся, я перетерпел. Только новую обиду всем нам, соседям своим, не смей наносить, хлеб от народа не вздумай прятать.
Уже не первый день Данила ожидал этих незваных гостей и этого неизбежного разговора и не раз уже перебрал-передумал возможные извороты судьбы. Почему-то был уверен, что сельсоветчики, комсомолия, активисты явятся к нему с непременными шумом и громом, с угрозами, с оружием на виду. Все оборачивалось по-иному, непредусмотренно и странно, — эти люди держались вежливо, говорили спокойно, выслушивали хозяина с выдержкой и терпением.
— Никакого обыска я не позволю, — заявил Черныш. — Ежели насилие — вам же будет хуже. А по-мирному я всегда в согласии.
Он попятился к дому и стал в дверях, на пороге, быстро оглянувшись и сделав кому-то знак рукой.
Макар уловил и взгляд его, и этот знак, и тоже оглянулся: он успел заметить, как в углу двора, за оконным проемом сарая, смутно мелькнула тень. Там кто-то прятался и, быть может, выжидал минуту, чтобы вступиться за Черныша.
— Ладно, — сказал Макар. — Мы, конечно, согласны и по-мирному. Сколько у тебя хлеба спрятано? Где он зарыт?
Черныш уже успокоился и небрежно помедлил с ответом:
— Сколько спрятано — не считал. Ступайте вы, люди, по домам, а завтрашний день я сам излишки прямо к сельсовету доставлю.
— А все-таки сколько? — подходя со двора, спросил Андрей Белан, заметно удивленный деловым и спокойным оборотом встречи. — Ежели у тебя, Данила, сознание прояснилось и ты понимаешь, что это братский долг наш — дать рабочему классу, мариупольским работягам, доменщикам хлеб…
— Хватит, — прервал его Черныш. — Был бы хлеб, а зубы сыщутся. Завтра подкину вам тридцать пудов.
— А кто у тебя в сарае прячется? — прямо и резко спросил Макар. Он обернулся и возвысил голос: — Эй, человеке, что в сарае притаился, выходи! Не выйдешь, запомни: если тут сегодня прольется кровь, никуда вы, бандиты, не скроетесь, не убежите, потому что некуда вам бежать, добегались!
На Черныша это предупреждение, казалось, нисколько не повлияло, он готовился торговаться, ссориться, тянуть время — у него были причины выгадывать каждую минуту, но тот, кто прятался в сарае, услышав слова Макара, медленно опустил обрез.
Он не вышел к сельсоветчикам, не открылся, а когда они окружили сарай и Андрей Белан распахнул двери, здесь только и было найдено, что свежие окурки на полу, да у пролома в задней стене два оброненных патрона.
— Значит, была засада? — зло изумился Гнучий и бросился на крыльцо, чтобы пройти в горницу, но Черныш не посторонился.
«Как охраняет вход! — подумал Макар. — И это, конечно, не случайно». Он взял из руки Белана два найденных патрона, положил на ладонь и поднес чуть ли не к глазам Данилы. Тот шумно выдохнул воздух и отступил на шаг. Макар отстранил его плечом, шагнул в горницу.
В горнице было почти темно, окна завешены какой-то длинной и темной тканью, наподобие конской попоны, и Макар не заметил у стола неподвижно замершую женскую фигуру. Он поднял руку, откинул с окошка занавесь и отшатнулся: женщина с криком заметалась по горнице, комкая и прижимая к груди какой-то старый зипун.
Сколько помнил Макар своего бывшего добродетеля, в холостяцком доме Черныша постоянно обитала какая-нибудь богомольная приживалка. Поэтому и теперь Мазай не удивился присутствию незнакомой женщины, но ее поведение не могло не озадачить.
— Успокойся, тетушка, — попросил он мягко, — что ты, ей-богу, света испугалась? Вижу вот, на столе свечной огарок еще дымится, а кто же, тетушка, зажигает свечи днем?
В горницу, споткнувшись на пороге, шумно ворвался Черныш, метнул в Макара ненавидящим взглядом, кинулся к женщине, вырвал из ее рук зипун. Что-то волнисто звякнуло, рассыпалось колокольчиком, где-то затерялось в углу. Осторожно пятясь а напяливая зипун, Данила медленно выбрался в прихожую. Женщина, изогнувшись, стояла у стены, и вид у нее был — как у парализованной.
Кроме свечного огарка, Макар увидел на столе катушку ниток и наперсток: значит, женщина шила. Почему же в дневное время она шила при свече? У нее, по-видимому, были и ножницы, и это, наверное, они упали на пол и зазвенели. Он наклонился, но не заметил ножниц, — поднял ярко начищенную медную пуговицу. Она была холодноватая и наощупь не выпуклая, а плоская, почему-то без обычной петли. Положив ее на ладонь, Макар приблизил руку к окошку и едва не вскрикнул. На ладони лежала золотая десятка царского чекана.