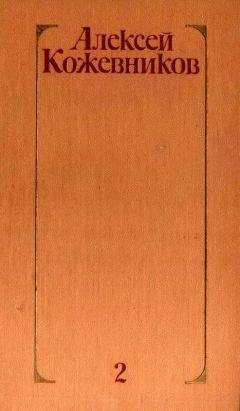Жить довелось им во многих местах — среди вишен, яблонь, дубов, берез, сосен, кедров, но любимцами остались тополя. Везде вспоминали они вольный тополь своего детства: «Жив ли? Видит ли нас? Доволен ли нами?» И пусть тополь не мог ни осудить, ни похвалить, ни посоветовать, и была с ним только игра, но для них она значила как бы разговор с другом.
Обогнув поселок, направились вокруг котловины, которую предполагалось затопить. Шли, придерживаясь будущей береговой линии. Тут было сильно перекопано, и ноги то оступались, то спотыкались, к ним налипала глина, но это ничуть не мешало, а даже помогало воображать прихотливо изогнутый берег будущего пруда с мысками, заливами, тополями, березами, ракитками, в которых распевают соловьи.
— Доживем ли?.. — в раздумье сказала Нина Григорьевна.
— Доживем, — уверенно отозвался Степан Прокофьевич.
— Я не про это. Дадут ли довести до конца? Вдруг скажут: Лутонин нужен в другом месте.
— Тогда, по-твоему, не стоит и начинать?
— Какой ты: только и знаешь — либо так, либо не так, — упрекнула его Нина Григорьевна. — Я хочу сказать, что… если уж нас послали сюда, пусть лучше не трогают.
— Я тоже хочу этого.
Потом долго бродили вдоль реки, прислушиваясь к бегущей воде. Было удивительно и радостно: так похоже, что за ними бродит и шумит тополь их детства.
Вернувшись домой, они застали на своем крыльце Ионыча.
— Телефонтят из города. Софью Александровну вдрызг измаяли, — сказал он сердито, как выговор. По его представлению, директор сделал что-то неладное, а чтобы не отвечать, убрался подальше.
Софья Александровна Хмелева, секретарь дирекции, женщина лет пятидесяти, деловитого, уверенного характера, в тот момент, когда пришел Лутонин, имела самый жалкий, растерянный вид. Она разговаривала по телефону. Руки, губы сильно дрожали, отчего телефонная трубка колотила ее по уху, речь стала невнятна, как у заики, лицо рдело пятнами.
Увидев директора, она таким рывком протянула ему трубку, что телефонный аппарат переехал с одного края стола на другой. Степан Прокофьевич повесил трубку, сел напротив Софьи Александровны и спросил:
— Кто звонит? О чем?
— О посевной. И наделали же вы! — Она схватилась за голову и зажмурилась.
— Рассказывайте!..
Вечером ее вызвали к телефону. Редакция одной из областных газет просила сведения о ходе посевной. Софья Александровна ответила, что посевная приостановлена. Тут и началось: «Почему? Когда? Велик ли недосев? Кто разрешил?»
Тотчас, как только она повесила трубку, раздался новый звонок и злой голос:
— Кто у вас удавился на телефоне? Почему маринуете сведения о посевной? Что, что… остановлена? — Ответ Софьи Александровны, что строят оросительную сеть и поэтому сев остановлен, только увеличил недоумение говорившего: — Строят, когда же будут сеять? — Он спросил, кто отвечает ему, и закончил: — Скажите директору, чтобы не допускал вас к телефону, вы рехнулись.
Вскоре новость дошла до Рубцевича. Он приказал поднять на ноги хоть весь завод, но отыскать немедленно директора, а тем временем, пока Ионыч бродил в поисках, то расспрашивал Софью Александровну, то принимался отчитывать, какой же она секретарь: у нее на глазах происходит вопиющее нарушение плана, и она не бьет тревоги. Советский ли она человек?
Во время рассказа Софьи Александровны постоянно раздавались телефонные звонки. Тогда Степан Прокофьевич приподнимал и опускал трубку, прерывая связь. Выслушав, он сказал Софье Александровне, что завтра на все запросы о посевной — ответ один: «Я ничего не знаю. Говорите с директором». И отпустил ее домой.
Лутонин решил сам позвонить Рубцевичу. Разговор был короткий. Рубцевич только спросил, верно ли, что сев остановлен, и приказал возобновить его, а Степану Прокофьевичу явиться для объяснений.
Когда Степан Прокофьевич явился к Рубцевичу, тот как раз просматривал сводки о посевной и злился, что в графе Белозерского завода пусто. Сев по всей группе конных заводов шел трудно, на каждом шагу сказывались еще последствия недавней войны: не хватало людей, машин. Белозерский завод все время был самым светлым местом: оттуда не жаловались, ничего не просили, а план выполняли, с приездом нового директора начали даже перевыполнять. Рубцевич ставил Лутонина в пример всем прочим: учитесь, подражайте! И вдруг такой подвох…
— Сеете? — спросил он, едва Степан Прокофьевич открыл дверь.
— Нет. Строим.
— Вчера вы слышали мой приказ?
— Слышал.
— Почему не исполняете?
— Потому что он неразумный, вредный.
— Вот так мудрец… — Рубцевич захохотал, вскочил, сильно перегнулся через стол к Степану Прокофьевичу и, оборвав смех, прохрипел: — Сеять хлеб неразумно, вредно… Вы подумали, что говорите?
— Я этого не говорил. Я сказал про ваш приказ.
— Но приказ — тот же хлеб.
— Ошибаетесь. С вашим приказом мы останемся без хлеба. Сеять на богаре поздно, бесполезно. Проведем сначала орошение.
Рубцевич отмахнулся:
— Довольно, слышали! — сел в кресло и задумался, глядя на Степана Прокофьевича, который стоял перед ним навытяжку, по-военному, казалось — готовый по первому слову лететь пулей и в то же время такой невозможно упрямый; потом сказал, отделяя слово от слова и увесисто хлопая при каждой паузе ладонью по столу, будто ставя печать: — Разводить пустопорожнюю дискуссию не время. Все свои премудрости вон, немедленно на завод и сеять!
— Не буду, пока не закончу строительство.
— Вы напрашиваетесь на увольнение? — спросил Рубцевич, вдруг подумав, что всю историю с орошением Лутонин затеял, чтобы освободиться от конного завода, который не понравился ему чем-то.
— Не думаю. Даже напротив: если уволите, не уйду.
— Чего же ты хочешь, нелепый человече? — Рубцевич впервые видел такого строптивого подчиненного.
— Чтобы вы не мешали нам строить, не мешали выполнять указания ЦК.
— Такого указания, чтобы конные заводы все делали сами, нет. У нас свое дело. «Водстрой» обязан делать свое. Я не против орошения. Но против того, чтобы работать за ленивого соседа. Против того, чтобы строить сейчас, ставить под удар посевную. Сначала посейте, а потом стройте на здоровье! Вы же всю мою группу конных заводов толкаете по выполнению посевной на последнее место. Ломаете весь наш план.
— Зато хлеб дам. Я не знаю, какие планы у других заводов, но у моего не план, а разоренье. Я не утверждаю, что его составляли вредительски, может быть, только по глупости. Но вред не становится от этого пользой. — Степан Прокофьевич развернул перед Рубцевичем мрачные страницы отчетов и актов о падеже скота от недокорма и перегонов. — Глядите! Вам мало? Хотите еще оставить без хлеба, без корма?.. Хотите променять верный хлеб на голодный план?.. Я на это не пойду!
— Не пойду… не уйду… Вы кто — помещик? Конный завод — ваше имение? Не забывайтесь! — длинный костлявый палец Рубцевича быстро замелькал перед Лутониным.
— Не забывайте и вы, что меня послал обком. Он и разбираться будет, кто мы. — Степан Прокофьевич начал укладывать в портфель свои бумаги.
— Подождите, — Рубцевич схватил его за руку. — А если вы не уложитесь в намеченные сроки, не построите, — тогда недосев? Пятьсот га?
— Уложимся.
— А где гарантия?
— У вас есть наш проект, смета. Считайте! Проверяйте!
— А вы будете сеять?
— Строить.
— Ну и человече!.. — Рубцевич беспомощно развел руками. — Поймите же, что не могу я разрешить стройку под честное слово! Нужно дать проект на экспертизу, согласовать с «Водстроем».
— А в «Водстрое» скажут: «Надо посмотреть на месте». А на места они не выезжают… — Степан Прокофьевич быстро встал, решительно тряхнул головой, громко защелкнул портфель. — Нет… Не годится. Не могу я ждать, когда вы тут… Наш срок уйдет. Согласуем, когда построим, теперь некогда. Построим — само согласуется. Зачем еще экспертиза, когда проект делала Опытная станция?
— Опытная… Она может выкомаривать, как угодно, ей все сойдет: она опытная. Я спрашиваю в последний раз: вы намерены ломать план? — побледнев и кривя губы, сказал в новом припадке бессильной злости Рубцевич.
— План, план… затвердил, как поп: «Святый боже, святый крепкий, святый бессмертный…» — проворчал Лутонин и пошел к двери. Рубцевич вслед ему крикнул:
— Категорически требую выполнять план, и только план!
— Не буду! — Лутонин вернулся к столу и, ударяя по нему портфелем, добавил: — Повторяю, ваш план — разорение, путы, пробка. Мы с таким ни двинуться, ни дышать не можем. Я приехал сюда работать, творить новую жизнь как коммунист, а не молиться на ваш кургузый план. И разорву, выброшу его!
— Придется отвечать, — прохрипел Рубцевич.