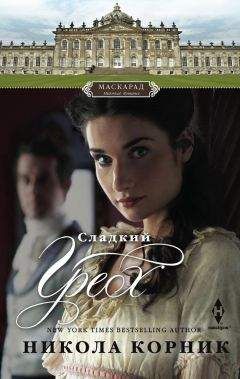Русский критик учил русского читателя и писателя тому, что еще не понимал Эжен Сю: «…что зло скрывается не в каких-нибудь отдельных законах, а в целой системе французского законодательства, во всем устройстве общества».
Достоевский в «Дневнике писателя» по поводу смерти Жорж Санд писал:
«Это одна из наших (т. е. наших) современниц вполне – идеалистка тридцатых и сороковых годов. Это одно из тех имен нашего могучего, самонадеянного и в то же время больного столетия, полного самых невыясненных идеалов и самых неразрешимых желаний…»
Писал дальше, что после революции «передовые умы слишком поняли, что лишь обновился деспотизм… что новые победители мира (буржуа) оказались еще, может быть, хуже прежних деспотов (дворян)…»
Достоевский вспоминал дальше не об отчаянии, а о надежде: «…явились люди, прямо возгласившие, что дело становилось напрасно и неправильно, что ничего не достигнуто политической сменой победителей, что дело надо продолжать, что обновление человечества должно быть радикальное, социальное».
Так вспоминал писатель веру своей молодости.
Как понимали товарищи Достоевского по кружку Петрашевского литературу, можно догадаться по тому, что они говорили на допросах следственной комиссии.
И. Я. Данилевский, человек впоследствии известный как славянофил, критик дарвинизма и зоолог, писал в следственную комиссию:
«Всякое существо, одаренное силами, приводящими его в движение, подчинено неизменным законам, по которым эти силы должны проявляться. Так как эти законы как неотъемлемая принадлежность, так сказать, – внутреннее требование самих этих сил, вытекающее из самой природы их, то, находясь в подчинении этим законам, всякое существо должно находиться в гармоническом состоянии».
Но фурьеристы утверждали, что то состояние, в котором находился человек их времени, дисгармонично и человек не может прийти, не зная законов, управляющих миром, в состояние гармонии.
Фурьеристы утверждали также, что «формы общежития доселе всегда изменялись и по сущности своей могут изменяться еще; природа же человека всегда оставалась постоянною и в своей сущности никак измениться не может».
У человека нет пороков, у него есть коренные стремления, то есть причины его действия. Необходимо «сделать так, чтобы то, что служит к удовлетворению моих стремлений, не только не вредило бы никому другому, но было бы согласно с выгодами всех…»
Мир пока дисгармоничен. Фурьеристы понимали дисгармоничность мира, его противоречия, внутреннюю его несчастливость, порочность строя не только русского, полуфеодального, но еще больше капиталистического, понимали очень ясно. Они стремились к тому, чтобы анализировать человеческие страсти. Среди страстей Фурье называл дружбу, или товарищество, честолюбие, любовь и родственность (семейные отношения).
Сам Фурье предлагал очень точные и очень фантастические способы удовлетворить человеческую природу и сделать человека тем счастливым.
Нужно было возродить, восстановить, так сказать, сделать законными человеческие страсти.
От фурьеристов Достоевский научился анализу человеческих страстей. Идиллия фурьеризма, планы будущего, вероятно, увлекали его в самой общей форме, но фурьеризм помог ему увидать швы, которыми скреплены человеческие отношения, их принудительность, противоестественность, их уже наступившую историческую лживость.
Революция, ее необходимость как будто поддерживалась новой литературой – творчеством Жорж Санд.
Во имя революции и нового мировоззрения углубляли писатели понимание литературы.
Старый «черный» роман, или «роман ужасов», Радклиф, Луиса, Матюрена, действие которого часто протекало в старых замках и подземельях монастырей, называли романом готическим. Его сменял социальный роман.
Молодой Гюго написал роман, внешним содержанием которого было средневековье: готическая архитектура, алхимия, королевская власть, преступный мир средневековья и первые проблески гуманизма.
«Собор Парижской богоматери» весь посвящен раскрытию архитектуры, как выражения духа времени; это роман о готическом здании, но в то же время это не роман, полный условных ужасов и страданий, – это роман о реальной социальной несправедливости.
Достоевский уже после каторги перепечатывал в журнале «Время» в 1862 году «Собор Парижской богоматери» в новом переводе, снабдив роман своим предисловием. В конце предисловия Достоевский говорил, что вещь всем известна, но только по названию. Роман характеризован как гениальный и могучий.
Роман «Отверженные» в своей первой части – «Фантина» – уже был обнародован на французском языке; у нас появился в отрывках и обсуждался,
Печатание началось одновременно в нескольких журналах: в «Современнике», «Отечественных записках» и в «Библиотеке для чтения». Печатание было прервано, а цензура получила выговор.
Комментарии Достоевского на старый роман Гюго, широкое толкование значения романа были злободневны.
Основная мысль романа по Достоевскому – это «восстановление погибшего человека, задавленного несправедливо гнетом обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков».
Достоевский отмечал в этой статье, что «Виктор Гюго чуть ли не главный провозвестник этой идеи «восстановления» в литературе нашего века». Таким образом, говоря о «Соборе Парижской богоматери», Достоевский читал старый роман как фурьерист.
Идея восстановления была идеей утопических социалистов. Считалось, что человеческая природа искажена и что ее надо восстановить, как бы расправить, дать ей осуществиться.
Достоевский говорит об этой идее, что это идея великая, охватывающая все европейские литературы века, что она представляет стремление и характеристику своего времени так, как «Божественная комедия» выразила свою эпоху, эпоху католических верований и идеалов.
Идея восстановления пришла к Достоевскому от социалистов. Он главный ее проводник, провозвестник в европейской литературе. Он ее хотел выразить, связав не с католическими, а с православными верами и идеалами.
Но идея восстановления все время у него противоречила попыткам религиозного своего воплощения и истолкования.
Достоевский, говоря о «Соборе Парижской богоматери», отрицал в этой вещи какую-нибудь аллегорию, прибавляя: «Но кому не придет в голову, что Квазимодо есть олицетворение пригнетенного и презираемого средневекового народа французского, глухого и обезображенного, одаренного только страшной физической силой, но в котором просыпается, наконец, любовь и жажда справедливости, а вместе с ними и сознание своей правды и еще непочатых, бесконечных сил своих».
Не просто «восстановление», а восстановление народа в собственной его красоте и правоте было прочитано Достоевским у Гюго и, вероятно, еще в молодости.
Сам Квазимодо у Виктора Гюго, вероятно, в замысле появился иначе, может быть, он родился при взгляде на химеры, вырезанные средневековыми монахами для украшения собора, и был продолжением архитектуры, выражением странностей средневековья.
Статуи чудовищ и демонов не питали к Квазимодо ненависти – он слишком был похож на них, так говорил французский романист.
Для Виктора Гюго свободное творчество великих народных мастеров средневековья – главное; он говорил, что в соборе «религиозный остов едва различим сквозь завесу народного творчества», а про Квазимодо, что «не только его тело, но и дух его формировались по образцу собора».
Квазимодо звонарь собора; колокол – голос собора.
Но страшное торжество Квазимодо, когда он получает на конкурсе гримас первенство за свое не искаженное лицо, вероятно, показывает, что Виктор Гюго видел в этом герое не общее, а поразительное и отдельное.
В первых вещах Достоевского человек показан в его последнем, но обычном унижении.
Дышат только победители. В раннем рассказе Достоевского (1846 г.) показан загнанный чиновник, который собирает путем невероятных мучений несколько тысяч и прячет их в своем тюфяке. Никто не знает его тайну. Однажды, когда бедный господин Прохарчин обиделся, сосед накричал на него: «Что вы, один, что ли, на свете? для вас свет, что ли, сделан? Наполеон вы, что ли, какой? что вы? кто вы? Наполеон, вы, а? Наполеон или нет?! Говорите же, сударь, Наполеон или нет?»
Быть Наполеоном, оказывается, в этой бедной квартире, сдаваемой угловым жильцам, совершенно необходимо, иначе свет не для тебя.
Мысль о Наполеоне рождается от социальной подавленности: господин Прохарчин и герой «Подростка» стараются стать Ротшильдами, Наполеонами, собирая сокровища.
Иначе ответил на этот вопрос Раскольников.
Люди бежали от жизни или в бунт, или в мечту – мечта без бунта приводила в подполье.
Пока все было в мечтах. В мечтах проходила молодость людей, они даже праздновали юбилеи своей мечты, как это рассказано в романе «Белые ночи».