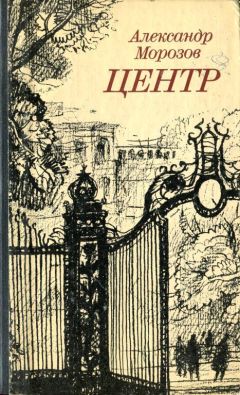С выводами его она не могла согласиться. Эка загнул: распрямляет извилины! Этим детям жить в двадцать первом веке, и неизвестно еще, какие невиданные и невообразимые сейчас требования предъявит к ним это уже близкое, но все-таки невообразимое столетие. И если даже отсутствие дворов и впрямь как-то реально скажется, чем-то «щелкнет» в их подкорке (что само по себе вовсе еще не доказано), то ведь кто предскажет, лучше это или хуже, полезно или вредно? А может, оголенность, расчлененность, геометричность этих микрорайонов как раз отзовутся логичностью, быстрым, без колебаний, перебором вариантов с четким выходом на оптимальную прямую. Будут способствовать выработке необходимой — и, чем дальше, тем больше необходимой — тут уж тенденция определена, никуда не денешься, — магистральности мышления. Быть может, ум этих ребятишек с самого начала будет свободен от разных завитков интеллектуального барокко, от зацикливания, дробности, «проходных» ходов и тупиковых загончиков. Эта архитектура не на пустом месте, не от фонаря возникла. Ее диктует экономичность и технология. А экономичность и технология сегодняшнего дня закладывают мышление дня завтрашнего. Бытие определяет сознание. Но, чтобы определять, необходимо предшествовать во времени. Вот поэтому-то в дополнение можно сказать, что бытие опережает сознание.
Но самое-то главное: что же мешать теорию с жизнью, так уж прямо и переносить любое возбуждение, возникшее среди твоих — слава те, господи, — извилистых извилин, прямо-таки волочить его и бухать в самый центр собственного семейного круга? Это уж прямо дурость какая-то, детскость какая-то, безвкусица и безответственность. (И откуда бы? Не водилось за ним ведь этого.)
Вначале так это и воспринималось: ну, сказал, ну что ж тут… Как говорится, с кем не бывает. Романтизм этакий, безответственность. Раньше за ним подобного не замечалось, стало быть, отыгрыш, отрыжка времен плюсквамперфектных, давно за горизонт провалившихся, до встречи с ней, его суженой. Удивила Катю только ее собственная реакция: злость, оборона глухая, которую мгновенно заняла, еще не ведая толком, перед чем именно. То была первая реакция, быстро отодвинутая ею, недопустимая, но именно потому, что первая, значит, и содержащая что-то истинное. Автоматизм на блеф не включается, здесь организм — не ум, — сработал, а он на химеры не реагирует. Организм — всегда Санчо Панса, он мельниц за чудовищ не принимает.
Сказал — и был таков… Этак-то еще ладно. Да ведь беда в том, что сказать-то он сказал, но потом, что уж и вовсе было неожиданно, принялся за развитие темы. Возвращался, кружил над ней, планировал, высматривал невидимую для Кати точку, чтобы спикировать. Она ничего не понимала и поэтому упускала время, а потом выяснилось, что кристалл рос не беспорядочно, а в одном определенном направлении: обмен, переезд, переселение в центр. Потом сразу определилось, что оригинальное наблюдение, абстрактная зацепка, умствование по вполне гипотетическому поводу, что оно уже вломилось и расположилось в их вполне конкретной жизни. Что от лихих, но ведь ничем не доказанных «размышлизмов» по поводу будущих психических свойств будущего гомо сапиенса Бориса Юрьевича оно вырулило уже, нацелилось на самое концентрированно-конкретное, лежащее в основании тысячи других мелких конкретностей деяние: обмен, переезд, переселение в центр.
Период: «Ну что, что тебе в этом центре, в театр мы, что ли, часто ходим или по музеям? А тут летом красота какая, простор, зелень, детский сад под боком» — период этот длился недолго — месяца полтора, может, Юра со все нараставшим приливом красноречия и энтузиазма убеждал, заманивал, рисовал перспективы, с легкостью необыкновенной и убедительностью разбивал ее возражения. Катя увидела, что это не наскок, не кампания, что предстоит длительная позиционная война, противостояние на износ. На износ их отношений, которые ведь и были смыслом и оправданием всему. А, собственно говоря, во имя чего? Как человек рациональный, коим она всегда себя считала, Катя не могла не признать, что центр есть центр. Что бы там она сама ни говорила или ни возражала, как бы ни высмеивала или ни разносила в пух и прах всякие там романтические бредни типа «дворов моей юности». И дело даже не в музеях и театрах и даже не в том, что на работу или обратно домой полгорода надо проскочить — занятие скучное и однообразное, не говоря уж о времени. В конечном счете для коренного москвича, вскормленного, вспоенного в кольце А, для которого это Бульварное кольцо — просто как манежный круг, на котором он выступает, то есть живет, единственное на земле место, жарко высвеченное мощными «юпитерами», а все остальное вроде бы не принимает участия, все остальное — зрители, партер, амфитеатр, полумрак — что для такого создания солидная доза неуютности заключалась в пересадке в эти новые районы, богато оснащенные правильно чередующимися универсамами, кинотеатрами, детсадами.
Здесь было все или, по крайней мере, многое для быта: отдельные квартиры с лоджиями и кранами хол. и гор., магазины, мусоропроводы, скоростные лифты и скоростные магистрали с современными развязками; но для души, души завзятого горожанина, только одно: кинотеатры. Кинотеатров было, что называется, навалом. Через две-три автобусные остановки друг от друга, не дальше, стояли эти роскошные строения, хорошо освещенные, прекрасно оборудованные, с громадными, как стадион, просмотровыми залами. Ничуть не уступающие штаб-квартире международных кинофестивалей, кинотеатру «Россия» на Пушкинской площади и уж, конечно, по всем статьям превосходящие десятки стареньких, маловместительных кинотеатров, вкрапленных в Садовое кольцо и кольцо А. Стояли и… простаивали. За редкими исключениями (период детских зимних каникул) просто-напросто пустовали. То ли по причине серости текущего кинорепертуара, то ли обескровленные могучим конкурентом — «голубым экраном», то ли просто, как сказал однажды Карданов, правда, по другому поводу, «другие времена — другие песни».
Давно, ох и давно это было, в эпоху, когда она была еще «во девичестве Яковлева»». В секторе Ростовцева их было двое молодых специалистов — блестящий юный полиглот, восходящая звезда, неясно, правда, в каком направлении восходящая, но что звезда, это и без телескопа заметно, и Катя Яковлева, держащаяся своей основной специальности, чешского языка, но держащаяся его основательно, без шараханий и рысканья даже в сопредельные славянские лингворайоны. У Нели Ольшанской, пришедшей в Институт двумя годами раньше, тоже было высшее гуманитарное образование, но все-таки корректор, в некотором роде черная кость. Нелю, впрочем, ее техническая роль вовсе не расстраивала, на цыпочки она не становилась и возможным (если возможным) переходом на «творческую» должность она не была озабочена. Ее заботы и расстройства, как скоро узнала тогда Катя, лежали совсем в другой плоскости.
А Карданов и Катя, правая и левая руки Ростовцева (именно так, ибо правой, конечно же, стал Виктор как мужчина, как полиглот, взявший на себя всю остальную, за исключением чешской, славянскую периодику, и еще немецкую, наконец, как человек, легкий на подъем, на исполнение заданий, как шибко подкованный и инициативный), быстро сработались. Быстро составили идеально сыгранное звено младших научных сотрудников с Нелей Ольшанской на роли распасовывающего.
На работе — как на работе, и эти отношения, что называется, задались. На работе, то есть восемь часов в сутки, все было мило, свободно, хорошо. Ну и… хорошо. Но Карданов серьезно отнесся к своей роли джентльмена, решил, верно, что не приударить за Катей просто неприлично по отношению к ней, что «дело мужчины предложить — дело женщины отказаться…». Ну и все прочее в этом духе. Так ли уж нужно это было ему самому — Катя не знала. Предполагала, что едва ли… Она выше его «на каблуки» (тогда туфли на шпильках были еще в моде, и она, несмотря на высокий рост, неуклонно носила именно их). А как это действует на мужчину? Точного здесь нет ничего, но Катя прикидывала, что такое сочетание как-то должно подавлять противоположную сторону. Не очень-то он казался взволнованным в ее присутствии. Впрочем, может быть, хорошо скрывал? Этого наверняка она не знала, а слишком и не раздумывала, не допытывалась. Непохоже, чтобы скрывал, не умел он этого, вообще не снисходил до обдуманности поведения — темпераментный вьюнок, вьюноша.
Но приударить — это уж, ясное дело, почему бы и нет? Честь мундира того требует, да к тому же за хорошим товарищем, «девочкой в самом соку», как открыто формулировала Неля Ольшанская. Та же Неля, как о деле вполне всем известном и даже обыденном, стала вскоре вставлять в рабочие и нерабочие разговоры предложеньица типа: «Он на тебя сразу глаз положил». Катя не любила нарочито вульгарных, нарочито натуралистических Нелиных словес вообще и этого выражения в частности. Не любил их и Витя. Здесь у Кати с Кардановым, то есть в области лингвоэстетической, было полное единодушие. Неля и сама не хуже Кати понимала, что лексические оковалки ее здесь к делу не идут, что здесь и дела-то, строго говоря, нет и вряд ли предвидится, но вот любила смачно проговариваться, и все тут. Пусть неоправданно и топорно звучит, пусть сама эту топорность слышит (языковым чутьем бог не обидел, из профессорской семьи, чуть ли не с детства в дзоте из толковых словарей и энциклопедий сидит), пусть… Какое-то удовольствие извращенное получала, наверное, от этого. Все вокруг только посмеивались от смущения, а непосредственные жертвы иногда и краснели (в том числе и сам Ростовцев — либерал и остряк, но ведь не до такой же степени), а Неля смотрела круглыми честными глазами, применяя железное правило всех комиков мира: «работая» номер, самим оставаться предельно серьезными и наивными.