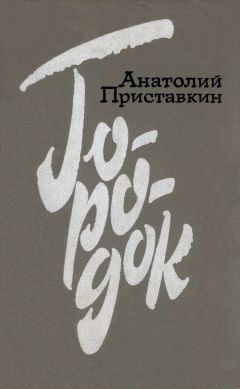— Меня обманули только один раз,— сказал он.
— Это была женщина?
— Да, я тебе потом о ней расскажу.
— Можешь и не рассказывать, если тебе неприятно.
— Я обязательно должен о ней рассказать,— повторил твердо Шохов. Лицо сделалось жестким, на переносице резче обозначилась вертикальная морщинка. И Тамара Ивановна, чтобы смягчить ею же вызванный разговор, стала пальцами разглаживать эту морщину, а потом целовать ее.
Через месяц и один день после первого посещения с Мурашкой они расписались. Были приглашены в свидетели и Мурашка, и подруги по школе, но Мурашка в загс прийти не смог из-за каких-то неприятностей на объекте (они теперь строили школу-интернат), зато подруги пришли все. Так и вышло, что на своей свадьбе Шохов представлял как бы весь род мужской, а кроме него было шесть женщин, все ровесницы или чуть старше Тамары Ивановны, и все безмужние. Женщины пили мало, но шумно, целовали Тамару Ивановну, желали ей счастья и крепкой семьи, да и детишек в придачу. К Шохову же обращались по имени-отчеству, называя Григорием Афанасьевичем, и по-разному, кто с придиркой, кто с кокетством или даже затаенной завистью, рассматривали его. Тамара же Ивановна ничего не видела и была откровенно счастлива. Она всех любила, всем верила в этот прекрасный вечер. Заводили пластинки, Шохова по очереди приглашали танцевать, и все-таки все знали, что и во время танцев он думает о своей Тамаре Ивановне, и потому все время женщины как бы извинялись перед ней, произнося: «Мы твоего Григория Афанасьевича не закружили?» Тамара Ивановна, выпившая сегодня больше, чем обычно, зардевшаяся, отвечала дерзко и громко: «Голову, девчонки, не закружите, он у меня наивненький!» Смотрела из-за стола насмешливо и испуганно,— так, во всяком случае, казалось Шохову. Он же и во время танцев с бойкими учительницами видел только свою Тамару Ивановну и глаза ее, сумрачно-золотые, безбедные, полные счастья.
Шохову было поручено развести подруг, и он безропотно их всех проводил. Одна жила на другом конце города, была шумливей остальных и досаждала ему бесконечными разговорами. Потом запела вдруг:
На стене висит пальто,
Меня не сватает никто!
Пойду в поле, закричу:
Ох, замуж я хо-чу-у!
А на другой день они справили свадьбу еще раз, уже с Мурашкой, который пришел без жены.
Тамара Ивановна огорчилась и спросила: почему же без жены?
— А нечего ей,— рыкнул Мурашка от входа.— Пусть с детишками сидит, нечего ей по гостям...
— Вам, значит, можно ходить? А ей нельзя?
— Я другое дело,— очень уверенно и громко подтвердил он.
— Это что же, принцип? Женщин держать дома?
— А в каждой семье должен быть свой принцип,— решительно сказал он, без приглашения садясь за стол и ставя локти перед собой. Но прежде чем обратиться к закуске, опытным взглядом оглядел комнатку, отмечая качество ремонта и некоторые новшества вроде стеллажа, который Шохов сделал для книг, лежащих в кладовке.— Я и вам желаю иметь свой принцип в семье, который не нарушался бы,— повторил настойчиво, с нажимом Мурашка; видать, завелся на работе и не смог отойти. Так, во всяком случае, показалось Шохову.
Громко выпивая и закусывая, Мурашка произнес усмехаясь:
— Тамара Ивановна, за вашу семью и за ваши кулинарные способности. Не забывайте, мужика надо вкусно и часто кормить... Тогда он будет доволен!
— А я знаю,— отвечала та и при этом смотрела ласково на Мурашку.
У Шохова впервые от ревности екнуло сердце, вот уж чего он за собой не замечал. Просто был он неопытен и не знал, что женщина может смотреть ласково на любого гостя, ведь гостю это приятно. И дело вовсе не во взгляде, ведь эта ласковость-то принадлежала все равно Шохову, она потому и есть, что он, Шохов, рядом.
Мурашка же, шумно дыша, повторил свои рассуждения насчет кормежки и в полушутку стал говорить, что лично он любит, чтобы после работы был красный борщ. Оттого и женился. Все думают, что он просто женился, а он все — из-за борща. В его любви борщ занимает первое место. А если серьезно, то он лично считает, что женщина создает в семье равновесие. Когда все хорошо и у всех хорошо, она будто бы и ворчит, и грызется, и конфликтует, не без этого. А как что-нибудь случится — она и утешает, и подбадривает, и поддерживает... В общем, создает равновесие.
— А что там случилось, на работе? — спросил Шохов.
Мурашка, указывая на него, вскричал:
— Он — кипишной! Кипишной! Он за работу болеет! Я это сразу понял, когда принимал его. Я тоже был такой, верно говорю. Однажды, где же это было, на Хантайке, кажется... Вы не бывали на Хантайке? Лесотундра, но места отменные, надо сказать. Так вот, машина у меня застряла, а я молодой был, скинул с себя полушубок да под колеса: одни тряпочки принес домой... А жена так и не дозналась!
— Что-то у вас жена все в стороне и все ничего не знает? — засмеявшись, спросила Тамара Ивановна, и Шохов снова почувствовал толчок ревности.
Мурашка хмыкнул, поворачиваясь, и зацепил локтем звякнул тарелкой.
— А я, уважаемая Тамара Ивановна, дом свой берегу и жену берегу,— сказал он членораздельно,— Вы, наверное, успели понять, что наша работа далеко не золото. Как выражался один мой хороший знакомый: прораб как картошка, если зимой не посадят, так уж летом обязательно! Это — шутка! Но в ней, как и любой шутке, есть доля правды. А правда такая: каждый день решаешь уравнение с тысячью неизвестных и никогда не знаешь, какое из этих неизвестных сведет твою работу к нулю! Несогласованность, брак, пьянка, бюрократия... Вы знаете, что доложил американский разведчик своему начальству, побывав на нашей стройке? Он сказал: не могу разобрать шифра: пишут одно, говорят другое, а делают третье! Такая работа на износ... Разве непонятно?
— Да, да, тяжелая работа,— сказала Тамара Ивановна.
Шохов хоть так и не считал, но промолчал, ничего не сказал. Про себя же он знал: надо вкалывать и не нервничать, а все эти высшие соображения не для него.
— Я, может, от строек крупных убежал, чтобы жизнь себе сберечь. А как ее можно сберечь, вы спросите? А так вот. Свои нервы, свои беды, свои рабочие дела не тащить домой. И — только. Дом — это... Это... место, где можно себя уберечь. А для этого жена должна беречь дом, убирать его, воспитывать детишек и ничего не знать о моих делах. В крайнем случае ее лишь должно волновать, сколько прибавляется у меня на книжке...
И, опять легкомысленно смеясь и ласково и негромко, спросила Тамара Ивановна, золотисто взглядывая на Мурашку, сколько же у него на книжке, много ли ему дала профессия строителя.
Тот грохнул, будто потолок обвалился:
— Сто тыщ!
— Правда? — усомнилась Тамара Ивановна и взглянула на Шохова. Но Шохов смотрел на Мурашку и молчал.
— Правда! — шумно выдохнул тот. — В перспективе — сто тыщ!
— Как это? В перспективе? — спросила Тамара Ивановна.
— Ну как? Я получаю двести целковых, и до пенсии мне осталось двадцать лет. Вот вам сорок восемь тыщ! А потом я еще лет тридцать проживу, и мне будут платить по сто двадцать — вот и выходит на круг сто тыщ! А все потому, что я знаю, что работой я обеспечен, будь она проклята!
— А все-таки вы мне не ответили,— напомнил Шохов.— Что-нибудь случилось, да?
Мурашка торопливо закусывал и не отвечал, казалось, что он вообще не слышал вопроса. Но потом поднял голову и почти равнодушно сказал, даже голоса не повысил, что сегодня он уволил бригадира штукатуров Сеньку Хлыстова. Без профсоюзов там, без всего. Уволил, и баста.
— Он будет жаловаться,— сказал Шохов.
— Пусть жалуется.
— Потом у него тут несколько дружков, он их поит.
— Пусть! Пусть! — И Мурашка резанул воздух рукой.— Я эту гниду к стройке на километр не подпущу.
— А что случилось? — спросила Тамара Ивановна. От мужа она уже знала, кто такой Хлыстов.
— Девчонка пришла ко мне, плачет, говорит, что... В общем, беременная от него. Я позвал, стал внушать, все деликатно... А он, вонючка, мне и говорит: «Я не знаю, может, ты сам ее и запузырил!» Я ему тут и врезал, так что он с лесов слетел. Будет помнить.
О том, что об этой девчонке Мурашка узнал от Шохова, он дипломатично промолчал.
— Вас же судить будут! — испуганно произнесла Тамара Ивановна.
— А ч-черт с ним! Да никто и не видел! Пусть доказывает теперь! — громко, будто не им, не молодоженам, а кому-то еще произнес Мурашка.— Вот, Гришуха, запомни: правдолюбцы — это несчастные люди! Как я выражаюсь, это смазывающая часть общества, как масло в машине... Но ведь масло-то первым и сгорает! А без масла машина — ни с места! Одни сознательно на это идут, другие становятся ими случайно. Но сгорают и те и другие. И никто им помочь не сможет. Понял? И мне никто не поможет, я это знаю... Один Тимоха Шейнин, друг мой приятель! Так что наливай, Гришуха, выпьем за наших врагов! Чтобы они провалились навсегда! Хоть так и не бывает! Врагов иметь может только уважающий себя человек. Понял? Выпей тогда за меня и за моих врагов, я всегда их имел. Выпейте и вы, Тамара Ивановна.