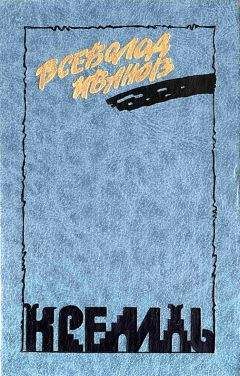— Он не понимает шуток, — сказал он брезгливо. — Кроме того, говорит, что пища Ларвина, с которым он в пае, и вино его. И если даже выиграно пари, и слушать не хочет о нем, то я обязан был тратить вино. Они облили меня водкой…
— Да вы мокрый.
Доктор хотел сказать, что высох бы мгновенно, если б она прислонилась так же, как она прислоняется к Черпанову, но он не мог сказать этого еще и потому, что смотрел смущенно в пол и сам не понимал, я думаю, как он сюда попал, и, возможно, он даже нашел фразу, но, несомненно, потерял ее немедленно же. Я вначале подумал даже, что он трусит, нет, он не мог трусить, это ему и в голову не приходило, он просто пригласил нас быть свидетелями, в частности, меня и Черпанова, в его споре с Трошиным.
— Вы же мокрый, — повторила Сусанна, глядя нагло на Черпанова, тот только извивался и сопел.
— Есть способ вас высушить.
Доктор был чрезвычайно обрадован, он держал в руках сверток. Он молчал и потуплялся еще больше, но бумажный сверток все-таки не отслонял от себя.
— Вот сундук.
— С котом? — довольно непонятно спросил доктор.
Сусанна смахнула кота.
— Это тоже имеет смысл. Вам не кажется странным, что кот лежит на сундуке?
— Сколько я знаю жизнь, — вставил я на молчание доктора, — коты всегда дремлют на сундуках.
— Однако этот кот даже печке предпочитает сундук. Это потому, что все последние дни в нем стояла керосинка, в сундуке, мы из него вынули платье, он приобрел сырость, мы его просушивали, он громадный и прожарился, у него кирпичные стенки.
Она все время смотрела на Черпанова и боялась, видимо, что его провинциальность исчезнет.
— Это самый лучший способ сохранить имущество от воров, ведь любые железные стенки можно вырезать, а попробуйте-ка вырезать кирпичные — тотчас же услышат и поймают. У него даже крышка выложена кирпичом.
— Впервые слышу о таком сундуке, — сказал я.
Доктор напряженно смотрел на ножки Сусанны. Ему было безразлично.
— Разрешите просмотреть?
— Зачем же? Уйдет тепло. Вот в нем можете обсушиться, — сказала она внезапно доктору. Она взяла два полотенца в руки. — Я открываю. Вы ныряете, и, чтоб вам не задохнуться, я с краев кладу полотенца, остается достаточная щель для прохода воздуха и для того, чтоб вы не выпустили тепла. Сверток можете оставить здесь.
В другое время я бы не пустил доктора, но он принял это как ощучивание жизни, как намек на шутку. Он, не посмотрев даже ей в лицо, схватив сверток, приподнял крышку и нырнул. В другое время я бы предупредил, но здесь — я бы и сам нырнул с великим удовольствием, так мне не хотелось присутствовать при развязке трошинской истории.
Сусанна свернула полотенца жгутом и положила их на край сундука, затем, как-то подпрыгнув, села на сундук. Бесчисленность карманов устремилась к ней.
— А вы можете отвернуться, — сказала она мне. — Вы просто рохля, подумаете совсем иное.
Трудно было подумать что-либо иное, хотя я отвернулся, и, чтобы действительно подумать иное, я преодолел свою нежелательность встретиться с Трошиным и вышел в коридор.
— Дверь-то закройте, — крикнул мне вслед Черпанов, — а то тут еще простудишься!
Я стоял у дверей и стерег Черпанова, думая, сколько же я все-таки получаю жалованья. С другой стороны, я полагал, что, стоя у дверей, в случае, если Трошин кинется на меня, картина, которую они увидят, вполне перенесет их внимание на другое и заставит рассмеяться и помириться даже, но и Черпанов может быть скомпрометирован. Так как же, растворять мне двери или нет в целях защиты? Пожалуй, лучший способ — превратить все это в шутку и посмеяться, и, пожалуй, доктор тоже бы посмеялся.
Но тут дверь из нашей комнатушки распахнулась и по лесенке скатился Тереша Трошин. «Началось», — подумал я. И точно, началось, видимо, уже давно. Боюсь, что Трошина били давно и били усердно, потому что, когда он выкатился, даже несмотря на сумрак, можно было рассмотреть у него синяк под глазом. За ним выбежал каменщик, белобрысый бригадир с французской булкой в руке:
— Я тебе покажу калуцких баб отбивать! — вопил он. — Я тебе покажу калуцких упрекать!
Трошин бежал. В руках у него была обглоданная донельзя поросячья ножка. Прижимая ее к щеке, он бежал по коридору, направляясь ко мне. Я уже готов был распахнуть перед ним дверь. Он видел меня, потому что привел поросячью ножку в такое положение, как будто хотел вспороть мне ею живот.
Я плохо верил вообще-то в возможность вспарывания живота поросячьей ножкой, а здесь в особенности, но все-таки поставил свой кулак так, чтобы никак не допускать столь позорной гибели своей.
Однако кулак мой не понадобился. По лестнице катились каменщики. Грохот от их сапог стоял неимоверный, он похож был на грозовую тучу, я сам понимаю банальность сравнения, но сами видите, что мне было не до сравнений, хорошо, что и это подвернулось, а то бы вообще пришлось обойтись без сравнений, разве что…
К тому моменту, когда я напряг все свои силы не столько для удара в кулаке, сколько для сравнения, я увидел, что сравнение мое было излишним, ибо французская булка с такой силой опрокинулась на затылок Трошина, что он выронил из всех карманов карты, даже из глаз и рта посыпались тузы и марки вин, язык его лизнул пол, зубы проползли где-то подле моего ботинка, затем вскочили и побежали, и Тереша Трошин их догнал и, так сказать, поймал их на лету, я не утверждаю это, но для вас будет, надеюсь, понятна вся стремительность этой драки. Он бежал, хотя и знал, что бежать некуда.
Один мой знакомый… Я тогда же вспомнил, как только они пробежали мимо меня, — рассказывал о своей поездке на автомобиле по казахской степи с фарами чрезвычайной мощности. Степь там настолько ровна, что автомобиль бежит там без дороги, прямо, как корабль по компасу. И вот в луче прожектора показывается заяц. Не оборачиваясь, не пытаясь даже выскочить из луча, он бежит перед автомобилем, ослепленный и залитым светом. Зайца можно застрелить или взять голыми руками.
Нечто подобное было и с Трошиным. Он бежал в прожекторе каменщицкой брани, плюясь кровью и зубами. Каменщики кричали, что они умеют мстить за калуцких баб. На крыльце французская булка нанесла ему уже второй удар, уже в область таза. Он перевернулся в воздухе и грохнулся.
Каменщики, даже не взглянув на поверженного, потрясая плечами, прошли через двор и скрылись в переулке. Обалделый, забыв обо всем, я вбежал в комнату. Черпанов встал, потер руки:
— Очень помогает напряженности шум, привычка общих квартир, вот, например, попробуй в лесу — ничего не получится.
Сусанна была довольна: он оказался провинциалом и не спросил ни до, ни после о подвязках. Он похлопал меня по плечу:
— Вы очень любезны, Егор Егорыч, что постерегли, а то превратное толкование могло получиться, сказали б, что служебное положение Сусанны использую. Она едет с нами и будет сидеть в парикмахерской. Видали вы планы? Там нет парикмахерской? Я закажу или, вернее, заказал специальный план для нее.
Сусанна сияла и была довольна, холодок находил на нее, когда она думала: а вдруг проспится и уже на правах близкого человека? Самое страшное для женщины в мужчине — это когда он начинает чувствовать себя близким человеком. Он спросит: а где же, милая, подвязки? Она холодела, и, когда Черпанов ушел, мы услышали стук, и не сколько раз она сказала: «Войдите», — подошла к дверям, там никого не было, крышка поднялась, и смущенный, глядящий в пол доктор сказал:
— Это я стучал.
Он вылез и, держа сверток в руках, смотрел на странно изжеванные жгуты полотенец:
— А действительно жарко, — сказал он, наконец, и вот он взял сверток в левую руку и, с трудом поднеся правую к правому уху, начал:
— Я говорю не о всех, но об известных состояниях человеческого организма, которые бывают в нашей жизни несколько раз, а у некоторых и часто, у многих никогда, и тогда человек резко осматривается, задумывается: мысли его, словно направленные на иное, задерживаются, когда он смеется беспрестанно, то когда ему надо рассмеяться — самым дурацким образом молчит. Несомненно, эти шесть способов для того, чтобы извергнуть из себя это состояние, не есть, может быть, самые главные, но лучшего я не знаю пока, а я прочел много книг и, главное, опросил множество свидетелей, свидетелей, чрезвычайно заинтересованных и близко знающих это состояние нашего организма.
Он потупился, покраснел и посмотрел на бумажный сверток.
Я говорю о любви. Первый и наиболее удачный способ — это, никогда раньше не говоря выбранному вами объекту, не намекая даже звуком о своей любви, выбрать такую минуту, когда, даже не пожимая рук предварительно, обнять его и поцеловать, причем удача зависит от того, как вы сможете, с какой выразительностью, я бы сказал, поцеловать. Правда, степень обратного поцелуя разъяснит вам те затруднения, которые вы предвидели до того, когда намеревались приступить к этому способу. Но способ этот дурен тем, что люди, в силу им свойственной нетерпеливости, ослепленные кажущимися им благоприятными обстоятельствами, часто в обратную сторону истолковывают и вышибают ударом там, где надобно брать выбором. Ведь как ни странно, любовь мы знаем, как будто, и хорошо, а на самом деле совсем мало, то есть, когда чувство это вламывается в дверь, тогда-то мы задумываемся.