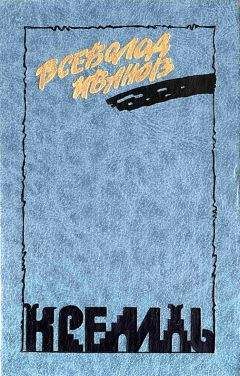— Однако, как же стадион? Вот вас обвиняют в том, что вы хотите взорвать пролетарский стадион.
— Да что вы мелете! — разозлился я. — Кто их обвиняет! Если б было что, то, поверьте, не нам с вами б их устрашать пришлось.
— Жизнь меняется быстро, кто знает, — вежливейше сказал дядя Савелий. — Если Матвей Иванович интересуется стадионом, сознаюсь, что и нас всех здесь этот вопрос волнует.
Они очень много курили, я не знаю, доктор, наверно, разорвал две пачки папирос, видя, что они не берут сигары; они курили папироску за папироской, комната была тесна, и скоро модные картинки приобрели какую-то жизненность, чему я не мог не радоваться, однако, два старика волновались:
— Мне снятся странные сны. Парады необычайно странно одетых людей, необычайно вежливых, ведь вот я весь мелом исписан, вот посмотрите на ладони — везде отметки химическим карандашом, вот он ходит, сейчас у нас в промежутке между очередью час времени, он ходит, и так как он пенсионер и вообще вид страдающий, то его пускают, но почему же получаю я?
— Да, почему же? — спросил я, радуясь, что вопрос отвлекся несколько в сторону, до того, что доктор заерзал странным образом на месте, видимо, очень недовольный мною.
— Видали ли вы плакаты о вежливости: «Продавец, будь вежлив с покупателем, и покупатель также!» Боюсь, что я самый вежливый человек в стране, и недаром гражданин Черпанов пригласил меня на Урал. Очень возможно, что буду преподавать вежливость на стройках. Меня пропускают только исключительно в виде вежливости необычайной, очень всех это удивляет.
— Но вы мне не ответили, хотя и вежливы, на мой вопрос о племяннице вашей и Ларвине. Вам много известно.
— Ну, вам тоже известно не меньше, если уж вам не известно, то кому же?
— Вон! — сказал старик, закуривая папироску от папироски.
Комната все более и более наполнялась дымом. Старики приблизились еще ближе. Боюсь, что они чувствовали отвращение и страх перед доктором. За кого они его принимали? То, что доктор сидел без сапог и сапоги стояли перед ним, вряд ли могло дядю Савелия вызвать к такой легкой беседе, мое незваное появление — тоже; старик же попросту вначале ласковый, по мере того, как неудержимо накуривался табаком и его багровая кожа начинала отливаться синим, делался словно шар, и слово «вон» были как булькание воды, выходящей из шара, тоже злился — одно его, не знаю, не то нечаянное, не то намеренное движение убедило меня еще больше в этом.
Доктор имел привычку держать распростертую ладонь у мочки уха, и вот старик нес пепел с папироски на пепельницу, ему вовсе не было нужды проходить над ладонью доктора, я это утверждаю, но он прошел над ладонью и уронил туда пепел — и, уронив, вздрогнул, причем, движение это заметил и дядя Савелий, который в иное время поспешно сдул бы этот пепел, но здесь он отвернулся. Правда, то, что говорил доктор, давало полное основание для негодования:
— Вы способствуете тому, что ваша племянница, при ее жажде к интригам, при ее желании иметь связи, легко может продаться. Да, я ее люблю, я говорю это открыто, при отце.
— Вон!
— Нельзя же быть такими холодными, если вы ненавидите друг друга и даже желаете друг другу смерти, то зачем вы живете? Вас держат миллионы, этот позор, это лицемерие надо разорвать. Вы старик, неужели вы, обманывая весь свет и всю жизнь, спокойно пойдете в могилу? Вы обманывали людей, угнетали рабочих, но даже мещанство не найдет вам оправдания в прекрасной семейной вашей жизни. Бог, конечно, чепуха, и раньше люди взывали к справедливости, а здесь я не знаю, к чему и взывать. Я вас ненавижу, вы мне омерзительны, я говорю с вами только как с отцом и только для того, чтобы высказать вам презренье. Тут вы распахиваете ваш чудовищный и гнилой мозг и думаете: «А доктор материалист, а как подхватила биология, как влюбился в дочь и не может отказаться от нее, несмотря на весь свой материализм!» У д-ра недостаточно организовано сознание, а если я вам сознаюсь в том, что мое изобилие интриг и путаница, которую я веду, именно это и прельстит вашу дочь. И она сбежит с провинциальным доктором. Я уже заставил сбежать Мазурского, а перед ним разворачивалась какая карьера!
— Вон!
— А я вас только что понял, — сказал дядя Савелий. — Вы говорите о Сусанне. Девица невежливая и грязная. К принятию ванны у нас мешает недостаток дров, а также и то, что в ней постоянно сидит какой-нибудь посторонний человек, но ведь она же могла бы ходить в баню. Вы нюхали, как у ней пахнет из подмышек?
— Нюхал! — с восторгом воскликнул доктор.
Этому восторгу даже и дядя Савелий удивился:
— Но что вы находите в этом хорошего, не понимаю, вы просто какой-то болезненный человек. Грязная и мерзкая девчонка — и чему восхищаться?
— Но вы не менее мерзки и грязны, и если в жизни присматриваться и размышлять по поводу всякой грязи, то тогда просто пулю в лоб или по крайней мере всю жизнь не покупать мыло, дабы уравняться. Я же не присматриваюсь к вам и к той чепухе, которая вас окружает, и вот вы, смеясь, хотели купить у меня масло для собаки, когда заведомо знали и вы и я, что никакой собаки у вас нету, и масло из сапога, где лежала моя потная и грязная нога, будете есть вы, дядя Савелий, парижанин, бывший в Париже три сезона.
— Жил. В молодости. Даже учиться хотел.
— И все врете. Никогда вы в Париже не были, не потому, что побывать в Париже я считаю подвигом — мало ли идиотов бывает в Париже, — а потому, что, по вашему куриному уму, быть в Париже вы считаете очень важным; всю вашу жизнь вы торговали мелочью на барахолке.
— Но в Париже я был. У меня фотографии хранятся.
— Чепуха. Чужие выцветшие фотографии.
Но дядя Савелий все так же невозмутимо стряхивал пепел — и боюсь, что последний раз он стряхнул на руку доктора уже не пепел, а тянул папироской, доктор отдернул руку, но голос его не повысился, он не вознегодовал; рука его напружилась, его глаза сверкнули. Он даже испытал удовольствие. Он тоже захватил папироску и начал курить. Курили мы страшно.
— А вот заграничный галстук. Какой галстук в течение 15-ти лет быть может неизносимым, как только парижский. Я жил на улице Сан-Мишель.
— Чепуха. Русский галстук, лодзинский галстук.
— Я извиняюсь, что поступаю невежливо, но разрешите снять воротничок.
Он скинул действительно воротничок, расправил любовно на коленях галстук, долго им любовался, он был синий с тоненькой, где-то тонущей и глубокой синеве красной полоской. Какое надо питать уважение, чтобы носить его, не попортив, он даже не истерся в сгибах, он не засалился, не зря он читал модный журнал, потому что без обширных знаний так галстук сохранить невозможно. Я вообще за все время спора молчал, поэтому тем более удивительно, что дядя Савелий протянул галстук не доктору, а мне, и тотчас же, как только я взял галстук в пальцы, я подумал, что произошло это потому, что дядя Савелий не желал, чтобы доктор приводил в иное положение свои руки, особенно правую, она стояла возле уха не очень наклонно, не дрожала — и вся унизана была пеплом. Повторяю, что шло какое-то безмолвное состязание на то, кто больше выкурит. Стоял густой дым, но и сквозь дым я мог рассмотреть пепел и ожоги от папироски на руке доктора, однако он продолжал говорить:
— Допустим, что вам одному не страшно понимать, но вот когда вы собираетесь вместе, не кажется ли вам, что вы, два седых человека с дряблыми лицами, позорнейшим образом прожили вашу жизнь. Вы были паразитами, и теперь — по вашему делу, я не буду вдаваться в подробности, этот паразитизм вами укрепился, даже в семье, оплоте вашей жизни, что же мы видим в семье — одобряют, как продаются дочь и племянница!
— Я был в Париже, видел Венеру Милосскую. Она стоит в бархатной комнате, и бархат на скамейках так же потерт, как и у нас в Большом театре. Очень трогательно.
— А я бы разбил Венеру, если на нее ездят любоваться такие гады. И, несомненно, найдется человек, который разобьет ее.
Если я себя раньше бранил при прижигании папиросками, мне кажется, меня просто даже тошнило от невероятного папиросного дыма, и мне захотелось подвигаться поближе, и мне казалось, что пепел они ссыпают рядом со мной; меня удивляло одно: во-первых, бестрепетное лицо доктора, а во-вторых, то, что он не менял положения руки, а ведь если мне это положение руки казалось неподвижным и странным, я ближе знаю доктора, то каким же оно должно было казаться им. Две папироски они докурили почти вместе, я от волнения плохо слышал их голоса, но они закурили еще и одновременно протянули папироски — и потушили их о руку доктора. То есть они углубились в тело, а затем синеватый их дым прекратился, и папироски были оставлены на некоторое время, покачались, мне даже показалось, что пахнет жженым волосом, но это, конечно, только показалось. Я разозлился. Я просто не нашел ничего лучшего, — дядя Савелий попросил меня, боюсь, что они даже сами испугались, рука д-ра по-прежнему была неподвижна, и он говорил все то же, развивая мысли, нисколько не повысив голоса, — передать галстук д-ру. И я, вместо того, чтобы передать галстук, со сладострастием погрузил свою пылающую папироску в галстук. Запахло тряпкой. Вначале на это не обратили внимания, но дым распространялся, признаться сказать, впервые я испытывал такое удовольствие от огня. Я начал понимать людей, которые любят огонь.