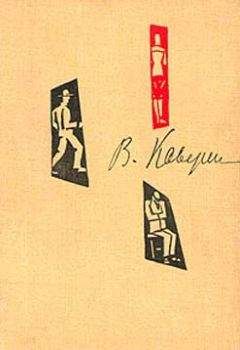— А по той причине, — неторопливо ответил Шахов, — что, если бы у вас было на одну сотую больше чести, вы не стали бы меня допрашивать.
Тарханов встал и с грохотом отодвинул стул.
— Ваше превосходительство…
— Продолжайте допрос, поручик.
— Я отказываюсь продолжать допрос, ваше превосходительство. Этот человек…
— Вы правы. Этот человек, несомненно, замешан в важных государственных преступлениях. Допрос его может иметь особенно важное значение. Будьте добры продолжать допрос, поручик.
Тарханов молча наклонил голову.
— Объявите ваше воинское звание, — сказал он, удерживая вздрагивающие губы, — назовите отряд, в котором вы состояли, когда были взяты в плен.
Шахов молча следил за ним.
— Я должен вас предупредить, что этот допрос может совершенно изменить вашу участь. В известных случаях вы можете надеяться…
Он вдруг оборвал и откинулся на спинку стула.
Шахов с посиневшим лицом ударил кулаком по столу.
— Если вы мне скажете… еще хоть одно слово… (он перевел дыхание), я тебя…
Грубое ругательство вырвалось у него.
Тарханов снова поднялся.
— Еще раз прошу вас освободить меня от…
— Я бы не назначил вас следователем военно-полевого суда, — сказал по-английски генерал, с любопытством глядя на Шахова быстрыми красноватыми глазами, — я полагаю, что нет необходимости впутывать меня в вашу личную жизнь… Впрочем, в чем же дело?
— Дело только за вашим распоряжением, — тоже по-английски отвечал Тарханов, — вы можете мне поверить, ваше превосходительство, что только такими мерами… По всей строгости законов военного времени…
— Да, да, — нетерпеливо произнес генерал, — поступайте как вам угодно…
Шахов усмехнулся.
— Я понимаю по-английски, — сказал он медленно.
— Тем хуже для вас, — коротко произнес генерал, — в таком случае, вы знаете, что вас ожидает. А теперь, — обратился он к Тарханову, — вы меня извините, у меня…
Казаки подошли к Шахову; он, не торопясь, повернулся и вышел из комнаты. Тарханов щелкнул шпорами и осторожно закрыл за собою двери.
24
Солдат долго топтался в кухне, вытирая ноги о половик и боязливо поглядывая на маленькую женщину, одетую с ног до головы в черное, которая стояла подле него и молча ждала, когда он заговорит.
— Это вы и будете Мельникова? — сказал он наконец.
— Да.
Солдат внезапно побагровел и стащил с головы фуражку. Потом, не говоря ни слова, он расстегнул пояс, сбросил шинель, обеими руками полез куда-то в карманы и с усилием вытащил кусок бумаги.
— Это вам.
Маленькая женщина взяла у него бумагу: на бумаге жирным шрифтом было напечатано:
«…Приказываю всем начальникам и комиссарам во имя спасения родины сохранить свои посты, как и я сохраняю свой пост верховного главнокомандующего, до изъявления воли Временного правительства республики. Приказ прочесть…»
Она протянула бумагу обратно.
— Ничего не понимаю.
Солдат, нахмурившись, взял бумагу и вдруг захохотал так, что на кухонной полке задребезжала посуда.
— У него, наверно, бумаги не было. На другой стороне писал.
На другой стороне было написано:
«Вот видите, Галя…»
Маленькая женщина не стала читать дальше.
— Это сестре, — объяснила она и вышла.
Солдат, оставшись один, надел шинель в рукава и аккуратно затянул пояс.
На оборотной стороне военного приказа было набросано карандашом несколько строк; бумага измялась, кое-где карандаш стерся:
«Вот видите, Галя, я бы очень хотел, чтобы те письма, которые я писал вам и которые вы не получили, были бы все-таки прочтены вами. Они в Томске, у моего товарища, преподавателя Томского университета Крачмарева. Он пришлет их вам, если вы захотите.
Вот и все. За последние дни я приучился курить, а здесь очень трудно достать что-нибудь; у дверей комнаты, в которой я сижу, стоят два казака, очень милые люди, которые, к сожалению, ничего не понимают в политике. Впрочем, о политике мне нельзя писать, — мы с вами не сошлись в этом деле».
Галина достала с этажерки папиросы, дрожащий огонек спички никак не мог выполнить свою простую задачу.
«…Мне всегда казалось, что я окончу жизнь таким образом, но все-таки я предпочел бы получить свой свинцовый паек два года назад; тогда расстреливали целым отделением, и из двенадцати пуль по меньшей мере три попадали в сердце. Теперь сумятица, неразбериха, и все это будет гораздо проще. Ну, прощайте, дорогой друг мой.
Ваш Шахов»
— Кто это принес?
— Какой-то солдат. Он, кажется, ждет ответа…
Солдат на цыпочках прошел в комнату Галины, вежливо кивнул и остановился, крепко прижимая к груди фуражку.
Галина попросила его сесть, он взялся рукой за спинку стула, но остался стоять.
— Вам сам Константин Сергеевич передал эту записку?
— Такого не знаю, — немного покраснев, отвечал солдат.
— Так кто же вам ее передал?
— Эту записку ктой-то… Ее, что ли, в штаб прислали. Меня товарищ Кривенко послал.
— А где он находится?
— Товарищ Кривенко стоит в Пулкове.
— Да нет, не Кривенко, а этот, от кого записка?
— Неизвестно, — сказал солдат, вытирая о шинель вспотевшие руки, — мы находимся в деревне Паюла, около Красного Села, а где он находится, ничего не могу сказать. Не знаю.
— Так Кривенко в Пулкове искать?
— В Пулкове. Там и штаб. Там могут, конечно, знать, только…
Он почесал голову.
— Туда всёки ехать опасно. Не то, что бои, а… Вам всёки туда ехать не годится.
Он неожиданно сунул Галине руку, надел фуражку и вышел.
— Маруся, я сейчас же еду.
Маленькая женщина в черном подняла на нее глаза.
— Куда?
— В Пулково, на фронт! Может быть, что-нибудь еще удастся сделать!
Покамест сестра накладывала на заживающую рану свежую повязку, она мысленно составила себе план действий: сперва в Смольный, чтобы получить пропуск на фронт; должно быть, туда без пропуска не проехать; потом в Пулково, в штаб, чтобы узнать, где находится Кривенко, оттуда на фронт, а там…
Она говорила вслух:
— Не может же быть, чтобы его уже…
— Что уже?
— Нет, ничего. Ты кончила? Вот что еще нужно сделать. Она вытащила все папиросы и табак, который у нее был, и попросила сестру крепко увязать все это в газетную бумагу. Та молча исполнила ее просьбу.
— Кажется, все? Деньги, документы… Ах да. Не забыть бы… Она выдвинула ящик стола и достала маленький браунинг.
— Теперь, кажется, все?
У потускневшего зеркала она надела свою черную меховую шапочку и простилась с сестрой.
25В ночь на первое ноября Гатчинский дворец напоминал тонущий корабль.
Офицеры сбились в одну комнату, спали на полу не раздеваясь, казаки, не расставаясь с ружьями, лежали в коридорах. И так же, как команда пущенного ко дну корабля не доверяет своим командирам, казаки Третьего конного корпуса больше не верили офицерам. У офицерских комнат давно стоял скрытый караул, назначенный казачьими комитетами.
— Довольно мы ходили на Петроград… довольно мы по своим стреляли.
Корабль тонул, и те, кто руководил им, все чаще задумывались о том, какою ценою они, в случае крушения, могли бы купить свою жизнь.
У них оставалось немного времени, чтобы решить этот вопрос, — вода проникла в трюм, и команда уже перебралась на верхнюю палубу; а прежде чем потонуть, команда в любую минуту готова была потопить виновников крушения.
Накануне вечером представители казачьих комитетов переехали линию фронта и отправились в Царское Село, чтобы предложить революционным войскам перемирие. Это перемирие было концом первой кампании гражданской войны.
Корабль тонул, — а крысы бегут с тонущего корабля! Эти крысы бросаются вплавь и тонут и доплывают до берега.
На этот раз берег был недалек, — крысы доплыли. Они бежали с правого борта на Дон и с левого борта на Волгу, в подвалы своей страны, в амбары иностранцев.
В ночь на первое ноября только капитан сидел на капитанском мостике со своими вестовыми. Он молча сидел в кресле у камина и смотрел на огонь своими близорукими глазами.
Он ждал до тех пор, покамест волны стали захлестывать мостик.
Тогда бежал и он, — капитан, превращенный в крысу.
Часовой похаживал туда и назад, поправлял сползавший с плеча ремень винтовки и пел по-татарски: «Двадцать пять шагов туда, двадцать пять шагов назад, вот я, караульный Бекбулатов, стою на посту».
Он скучал, этот татарин, бог весть как попавший в красновскую дивизию.
По коридору время от времени проходили казаки, в комнате напротив тихо и тревожно разговаривали офицеры; Шахов лежал на полу, расстелив шинель, глядел на сумеречные огни Гатчины и прислушивался к ночным шорохам, к позвякиванию шпор и оружия, которое казалось ему чудесной музыкой в эту ночь, как будто повторявшую печальные и знакомые минуты жизни.