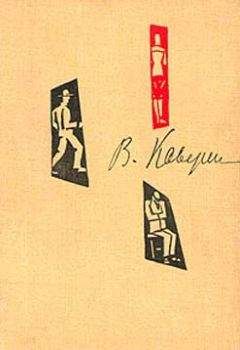Он не подводил никаких итогов, ни о чем не жалел. Утром ему удалось отправить письмо Галине, и с этим письмом от него отошло все, что тяготило его, все заботы и радости, и то, что он сделал, и то, что еще собирался сделать.
Остались только эти ночные шорохи и глухой разговор и эта песня, которую бормочет за его дверью часовой.
— Очень хочу спать, — пел часовой, — я очень, очень хочу спать… Вот скоро придет смена, и тогда я пойду спать, спать, спать…
………………………………………………………………………………………………………
— Ему начальство, елки зеленые, распоряжение делает, а он хоть бы хны! — сердито сказал кто-то за дверью.
— Начальство? А что, мне начальство? Было, да сгнило. Нас начальство по всем фронтам третий год гоняет, а большевики хотят сразу на Дон отпустить… Вот тебе и начальство.
— Сволочь ты после этого!
За дверью весело и лениво засмеялся кто-то.
— А сейчас бы славно домой… Матросы вчера говорили, что целыми маршрутами отправлять будут! А девки там! Эх, дядя! Разве тут есть такие девки?
— Девки! — хмуро сказал первый голос. — Тебе вся суть в девках. А присягу ты, сукин сын, забыл?
— Тоже, брат, взялся про присягу разговаривать. Довольно мы им присягали! Будет!.. Пускай теперь они нам присягнут!
— Что-то ты, Васька, больно разговорчивый стал, дерьмо такое!
Молодой возразил было, но шум внизу, в первом этаже, заставил казаков вскочить на ноги.
Беспорядочный говор катился по лестницам наверх.
Ни шагов, ни звона оружия не было слышно; казалось, что каждый коридор, каждая комната этого сумрачного здания заговорили сами собой.
Шахов вскочил и прислушался: в этом сплошном шуме все чаще и чаще повторялось, перекатываясь из комнаты в комнату, охватывая дворец со всех сторон, одно слово:
— Матросы!!
26
«Серое небо, скучная земля… и эта молочница с бидонами, и этот дачный вагон, и дым за окном, этот кондуктор с измятым лицом, и грязь вокруг.
Снова рука начинает болеть… Как медленно тащится поезд. До Царского Села только сорок пять минут, а мы уже часа два едем.
И этот старик с грязной бородой. Куда он едет? На фронт?.. Революция…»
— Фронт, революция… — снова повторила она про себя, стараясь понять до конца все значение и смысл этих слов.
«И он там, на фронте… Константин».
Она впервые за последние годы назвала Шахова по имени, и это имя вдруг показалось ей незнакомым, как это иногда бывает со словами, которых подолгу не случается произнести.
— Кон-стан-тин, — сказала она про себя по слогам и вздрогнула.
«Письмо… Быть может, все кончено уже?.. Теперь сумятица, неразбериха, и все это будет гораздо проще, — вспомнила она. — А я даже не знаю, что с ним случилось».
Бледные, мокрые поля проплывали мимо окон, где-то далеко в пригороде шел трамвайный вагон, солдаты нехотя тащились по вязкой дороге, маршрутный воинский поезд стоял на боковой ветке.
В вагоне разговаривали о голоде, о большевиках, об очередях, и все это, как надоедливый граммофон в пивной, уходило в мутный свет за грязными окнами, в скрипучее пошатывание вагона.
Она перебирала каждый час последних дней, которые с такой стремительностью выбили ее из привычного строя жизни.
И это глупое решение отправиться в Зимний с тайной надеждой умереть, в которой она не желала себе признаться, и встреча с Шаховым…
В тот день она как будто подчеркнула, что она — чужой для него человек, что нужно наконец порвать ту непрочную связь, которая, несмотря ни на что, все-таки еще держалась между ними.
Зачем она делала это? Зачем с таким упорством отказывалась понять, что ей была ясна причина его приезда?
Это письмо, быть может, последнее, которое он написал в своей жизни, — вот что заставило ее, не обманывая себя и ничего не скрывая, сказать себе наконец, что он приехал для нее, для встречи с нею.
Старушка, дремавшая, прикорнув, в углу возле окна, испуганно вздрогнула и сердито посмотрела на женщину в меховой шапочке, с подвязанной рукой, которая вскочила и, сжимая руки, с отчаянием стала ходить вдоль заплеванного коридора.
— Ах, боже мой, как медленно тащится поезд! — сказала она вслух, опомнившись.
— Медленно? А вы бы, барынька, автомобиль наняли! — сказал кто-то сверху.
«И проволока как медленно тянется вдоль окна, — продолжала она думать, — у столба поднимается, а потом идет все ниже… поднимается… и вниз… поднимается… вниз…»
И снова она вспомнила Шахова, на этот раз молодым прапорщиком, когда увидела его впервые: это молодое прищелкивание шпор при первом поклоне и первые слова, произнесенные еще незнакомым, еще чужим голосом.
Но этот образ был неясен ей; другое лицо выплывало перед ее глазами на грязном, запотевшем стекле.
«Он тоже там… Тарханов, — подумала она смутно, — быть может, они встретились на фронте».
Со странным любопытством она представила себе эту встречу— твердое, насмешливое лицо Тарханова и эти слова, которые он должен был произнести при встрече с Шаховым: «Теперь мы можем окончить наш спор. Теперь я на деле покажу вам, что такое приговор военно-полевого суда!»
— Дай-ка я завяжу!.. — повторял кто-то над самым ее ухом. — Видишь, уже к станции подъезжаем.
Она очнулась. Парень в поддевке помогал старушке завязывать узлы, все давно собрали вещи и толпились у выхода. Поезд подходил к Царскому Селу.
27Матрос, с размаху влетевший в комнату, где сидел Шахов, сам хорошо не знал, что он должен сделать.
— Арестованный? Освободить! — закричал он казакам, хотя те ничем не препятствовали освобождению Шахова. Тут же он бросился к Шахову, схватил за руки и потащил в коридор.
— Взяли Гатчину? Гатчину взяли, что ли? — торопливо спрашивает Шахов.
— Сама взялась! — весело прокричал матрос. — Перемирие, что ли! Пленными меняемся!
И хотя матрос сам хорошо не знал, заключено ли в самом деле перемирие и будут ли меняться пленными, Шахов ему тотчас же поверил.
— Где тебя взяли? — закричал матрос.
(Кричал он также без особенной причины, — в коридоре хотя и сильно шумели, но говорить можно было, не повышая голоса.)
— Под Пулковом в плен взяли! — ответил, тоже крича, Шахов.
Матрос радостно завыл и хлопнул его по плечу.
— Спирька Голубков, комендор Второго балтийского экипажа! Как звать?
— Шахов.
— Какого полка?
— Смольнинского красногвардейского отряда.
— А где тут еще пленные?
Шахов не успел ответить — толпа матросов хлынула вниз и разом оттеснила его в один из круговых коридоров. Дворец кишел как муравейник. Солдаты местного гарнизона бродили туда и назад по всем трем этажам. В каждой комнате был митинг. Матросы и красногвардейцы, согласно плану Военно-революционного комитета, «говорили с казаками через головы генералов».
Шахов, потеряв из виду матроса, пошел дальше один. С трудом пробираясь через толпу, он бродил по дворцу, пытаясь отыскать кого-нибудь из своего отряда. Наконец он снова спустился вниз и, незаметно пройдя лишний пролет лестницы, попал в узкий полутемный коридор, в котором гулко отдавались шаги, а свет электрических ламп становился все более тусклым.
Он хотел уже повернуть обратно, когда за беспорядочной грудой оружия, которою пересечен был коридор, услышал голос, показавшийся ему знакомым.
— Тринадцать карабинов, — говорил хмурый мужской голос, — один, два, три, четыре…
— Кто вам позволил здесь распоряжаться? — крикнул другой голос. — Зачем вы считаете оружие?
— Как зачем? Надо же его по счету принять, или как?
— Да, черт побери, поймите же вы наконец, что это не ваше, а наше оружие!
— Чье это ваше?
— Наше, Третьего конного корпуса!
— Идите вы к матери с вашим корпусом, — хмуро сказал первый голос; он продолжал считать — Семь, восемь, девять, десять…
— Согласно условиям перемирия, — раздраженно закричал второй, — все остается в распоряжении Третьего конного корпуса! Если вы сейчас же не уйдете отсюда, я…
— Ладно, ладно. Вам оружие не нужно ни к чертовой матери. Зачем вам оружие? Вы только и знаете по своим стрелять.
— Согласно условиям перемирия…
Хмурый голос окончил подсчет карабинов и принялся за винтовки.
— Вот сосчитаю, да как к вечеру чего не хватит, так тебя же как начальника арсенальной части расстреляю.
Над грудой винтовок, сваленных в кучу поперек коридора, Шахов мельком увидел лицо человека, с таким хладнокровием производившего подсчет чужого оружия.
Оно за последние три дня не очень изменилось, это лицо, только серая щетина выросла еще больше да глаза провалились еще глубже под нависшими старческими бровями.
— Кривенко!
Шахов подбежал к нему, едва не опрокинул столик, на котором красногвардеец записывал казачьи карабины.