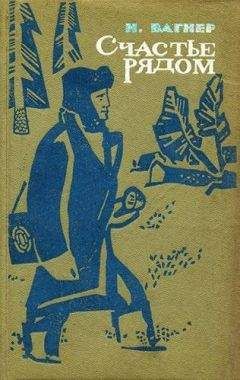— Поберегись! — кричал усатый кузнец в кожаном фартуке, когда поковка, шелестя о железо, скатывалась в воду. В отместку она выбрасывала облако шипящего пара — поберечься стоило. А из печи ловкие подручные вытягивали уже новую болванку, такую же красную и огнедышащую, какой недавно была та, теперь мертвая, потускневшая.
Долго стоял Хмелев у молота, словно прикованный, стоял и любовался, удивленный, сверкая угольками глаз.
Конечно, у микрофона должен выступить вот этот сосредоточенный, с широким мужественным лицом паренек. Вон как он орудует клещами, из самого пекла выбрасывает болванку и не боится, что она сорвется, прожжет ему живот или обрежет ногу вместе с ботинком. Наоборот — кажется, кусок раскаленного металла боится этого смелого человека, бежит вокруг него стремглав, поторапливается прочь — пусть под молот. А молот, послушный человеку, снова бьет болванку по загривку, вышибая желтые искры, и снова пшик — кончилась ее жизнь.
И вдруг — обвал! Тишина. Замер грохочущий богатырь.
— Шабаш! — сказал усач в кожаном фартуке. И его команду подтвердила сирена в противоположном конце цеха.
Обеденный перерыв. Вот тогда и состоялось первое знакомство Хмелева с Федором Митрофановичем. Рассказ о трудовом пути Кондратова, отзывы мастера были аккуратно записаны в блокнот. А через два дня Кондратов пришел в студию, чтобы выступить по радио. Эту встречу они запомнили, как день второго знакомства. Оказалось, что Леонид Петрович ничего не понял в методе усатого кузнеца. Кондратов же не только не мог написать своего выступления, но и прочесть его по тексту, составленному Хмелевым.
— Грамотешки маловато, — оправдывался Кондратов, вытирая вспотевший лоб. — У молота оно легче, чем выступать.
Но Хмелев не сдавался. Он заставлял читать еще и еще, по складам, пока Кондратов не заучил всю страничку. Однако выступить ему в тот раз так и не пришлось: текст забраковали как неконкретный, бессодержательный.
С тех пор прошло двадцать лет. Федор Митрофанович стал со временем знатным кузнецом.
Он много учился сам и передавал свой опыт другим. Выступления Кондратова неоднократно передавались и по уральскому, и по московскому радио. Эту науку он освоил прочно и уже не испытывал мук, как в тот, первый раз.
...Хмелев, не привыкший терять время попусту, быстро распрощался с Андреем и Федором Митрофановичем. Он сказал свое неизменное: «Счастливо!» и хлопнул дверью. Федор Митрофанович улыбнулся ему вслед, развел руками и сказал:
— Ну что ж, Андрей Игнатьевич, пойдем поглядим твою комнату. Она вроде бы подходящая, вот за мебель не взыщи...
В комнате стояли простенький диван с буграми от выступивших пружин, застланный клетчатым одеялом, старомодный письменный стол и неведомо откуда взявшееся глубокое мягкое кресло. Андрей посидел немного на стуле возле стола и начал распаковывать чемодан. Он достал книги, расставил их на полке, прибитой над диваном. Затем достал белье, уложил его в одну из тумб стола.
Когда все было расставлено и разложено по своим местам и когда он снова сел на стул перед письменным столом, начался уже третий час. Весь дом давно спал, а Андрей продолжал сидеть не двигаясь и ни о чем не думая. В руках у него, отражая свет настольной лампы, поблескивала фотокарточка в застекленной рамке. На него смотрели застывшие в раздумье, грустные глаза Иринки. Она сидела к нему спиной и резко повернула голову, будто внезапно оглянулась. Высоко на затылке были собраны в густой узел отсвечивающие белым блеском волосы.
Андрей долго всматривался в знакомые черты лица, а потом прислонил карточку к ножке лампы и оставил ее там.
Профессор Эдуард Иосифович Сперанский собирался в большую гастрольную поездку. Побывать в крупнейших городах Урала, а главное — посетить свою родину Новосибирск, стало его заветной мечтой. Его ждали встречи с родственниками, с друзьями юности. Они знали его рядовым пианистом, а теперь он, широко известный музыкант, отметит в родном городе свое пятидесятилетие. Об этом сообщат газеты, еще популярнее станет его имя.
Ирину предстоявшее путешествие волновало по-своему: она должна была ехать по хорошо знакомым местам, где прошло ее детство в годы эвакуации, остановиться в городе, в котором училась и дружила с Андреем.
Сидя на корточках перед чемоданом, она задумалась, глядя спокойными зелеными глазами на портьеру, которая время от времени оживала, колыхалась от легкого ветерка. За полуоткрытой дверью балкона стоял июньский вечер, там зажигала огни Москва.
Ирина подошла к балкону, откинула рукой прозрачную ткань. Скользнули по карнизу кольца, и перед ней открылся знакомый вид: черные силуэты каменных громад с оранжевыми квадратиками окон, зеркальная полоска Москва-реки, зеленые и красные огни речных трамваев. Далеко внизу, вдоль гранитной набережной, нескончаемой цепочкой рассыпались шары уличных фонарей, в их свете виднелись фигурки пешеходов. Вот-вот к дому должна была подъехать машина, и в ней Эдуард Иосифович, ее муж. Ирина все еще не могла привыкнуть к этому слову. Прошло два года, как она стала женой профессора, но до сих пор не давала себе отчета в том, насколько изменилась ее жизнь. Эти годы прошли в служении ее божеству — музыке, и он, удивительный музыкант Сперанский, был частью этого божества. С тех пор как в полуосвещенном зале консерватории она впервые услышала дыхание органа и увидела узкую сутуловатую спину профессора, его пышные седые волосы, она боготворила искусство этого человека: его игра приносила истинное счастье.
— Добрый вечер, ма шер! Заждалась?
Ирина вздрогнула. В дверях стоял профессор с портфелем, из которого торчал рулон афиш. Лицо его было озабочено, на белом выпуклом лбу поблескивал пот.
— Кажется, все уладил а фон [1], — вновь заговорил Сперанский, — захватил с собой несколько афиш, новых, с портретом, оттиски на удивление четкие! Вот посмотри.
Он просеменил по комнате, бросил портфель на стул и скрылся в ванной. Вскоре он вновь появился, бережно прикладывая пушистое полотенце к порозовевшему лицу, растирая мускулистые волосатые руки. Потом развернул афишу.
— Ну как, похож? — И обнял Ирину. — Посидим перед отъездом. Посидим и помолчим. — Но Сперанский сегодня молчать не мог. — В добрый час! — Он сбивчиво и торопливо называл города, в которых предстояло побывать, подсчитывал количество концертов и доход, который они принесут.
— Получается не так плохо! — Ты рада поездке? Ируша, чего ты молчишь, рада?
— Я не молчу, — встрепенулась Ирина, — я слушаю тебя, правда...
Лето начиналось с дождей. Грязное небо низко висело над городом, за весь день не давая выглянуть даже слабому лучу солнца. Тучи словно застыли на месте, раздумывая: не полить ли еще и без того размякшую от влаги землю.
Такие ненастные дни Юрий Яснов называл, по обыкновению, ресторанной погодой. Что могло быть лучше, по его мнению, чем сидеть вот в такой пасмурный денек где-нибудь за столиком и тянуть пиво. А сегодня он выпил бы, пожалуй, чего-нибудь покрепче. Во время последней ссоры с Зоей она назвала его пустоцветом, сказала о своем презрении к нему. Обо всем этом он никому не стал бы рассказывать, тем более Виктору Фролову, которого знал мало и недолюбливал. Но желание выпить, притупить остроту обиды заставляло его вновь и вновь начинать тот же разговор. Он бросил в окно недокуренную сигарету, прикрыл его и подошел к сидевшему за столом Виктору.
— Курица и та пьет, а погода все равно нелетная. Сообразим?
Фролов неопределенно пожал плечами.
— Не здесь же. И все-таки, как насчет записи? Когда вы полетите?
— Почему я, а не мы? Мое дело маленькое: кругло — катать, плоско — таскать. Откуда я знаю, что именно вам надо записывать.
— Тут все ясно, — возразил Фролов, приподымая отпечатанные на машинке страницы.
— Ясно здесь, а когда приедешь на место — все станет пасмурно. И от текста вашего ничего не останется. В общем, один не полечу. Вместе так вместе. У нас такой порядок.
Виктор поежился. Он готов был на все, чтобы отказаться от этой поездки. «Может быть, согласиться с предложением Яснова, потратиться на него в ресторане?»
— Не обязательно вдвоем, — сказал он. — Да и сами говорите — погода нелетная.
— Я-то могу и в нелетную, был бы самолет. А вот вы?
— Что я?.. Конечно, я предпочел бы поезд. У меня сердце. И не всем же в конце концов летать. — Как будто припоминая что-то, он добавил: — За меня летает мой брат.
— В каком смысле?
— В прямом, разумеется. Он летчик. Летчик-истребитель.
Юрий оживился: где служит брат Фролова, в каком звании, давно ли летает? Виктор отвечал уклончиво. Он давно не имел сведений о брате и поэтому не мог точно сказать о его местонахождении.