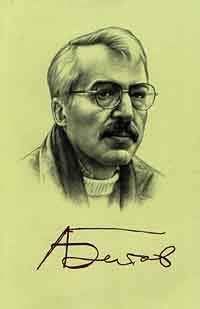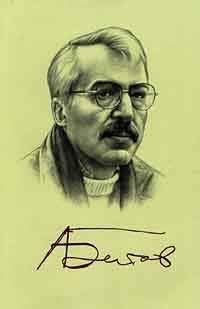спросил руководитель семинара, что я пишу, и я понял, что мне будет дорога закрыта, если я не отвечу, и поскольку там все читали свои стихи, я прочитал стихи брата. Я некоторые его стихи помнил наизусть. Брат был на пять лет меня старше, учился на филфаке. Потом уже мне пришлось самому попотеть. И я написал поэму, наверное, ужасную, в духе раннего Маяковского. Тема была занятная, о том, как жлобы посещают Эрмитаж, ничего не понимая в том, на что смотрят. Старушки, которые охраняют эти картины, тоже ничего не понимают, но сидят, очень похожие на эти картины. Вот так. Вдохновила меня “Дорога”, а провел меня Яша Виньковецкий. Замечательный был друг. И потом два мои жалких стишка включили-таки в следующий сборник. У меня дома даже хранилась верстка, я ее сохранял, сохранял, пока ее не “увели”. Ну вот, в этом литобъединении была замечательная поэт Лида Гладкая, она до сих пор жива, жена Глеба Горбовского, и она написала стихи по поводу событий в Венгрии. Там были такие строчки:
“Аврора” устала скрипеть на причале,
Мертвящие зыби ее укачали…
Этот стишок утек и был передан в одном из “голосов”. И тогда наше литобъединение закрыли, а тираж сожгли. И будь я хоть сколько-нибудь либералом или диссидентом, я бы мог сказать, что моя первая публикация была сожжена. Но я не либерал и не диссидент. У меня есть либеральные взгляды. Это одно. Но когда они начинают кучковаться, мне это не нравится. Я не хочу относиться ни к какой группе. Как только пахнет партийностью, я этого не кушаю. Поэтому я и власть не люблю, и политику, и партийность. “Власть отвратительна, как руки брадобрея”. Я привит от этого. Я категорически получаюсь антиобщественный элемент. Я не человек стаи. Я вообще думаю, что человек не совсем стайное животное. Вот когда он из нее выходит, то получается маргинал. Художник или преступник. Мне повезло выбрать первое, но ведь могло случиться и второе. Я лишен страха, сделан войной. Когда я был выгнан из Горного института, я прошел стройбат. А стройбат тогда был освобожденной зоной. Он находился на территории бывших лагерей. Я думаю, он и придуман-то был для того, чтобы кем-то эти пустые лагеря заполнить.
До армии я писал стихи, которых стеснялся. В армии я тоже писал стихи, но они мне не нравились. И я дал себе зарок бросить это дело. И решительно бросил. Не писал их лет двенадцать. Я вернулся к стихам после “Пушкинского дома”. Но и их считал любительскими. Хотя они были уже более-менее, я намял к тому времени руку на прозе. И я перестал их стесняться и стал даже потихоньку издавать. Ученица моей последней жены защитила себе докторскую со стихами Олега Григорьева и моими. Она утверждала, что ни у кого не было столько стихотворных размеров, как у меня. Но это от безграмотности. “Не мог он ямба от хорея, как мы ни били, отличить” – была такая шутка.
Настоящих поэтов совсем мало. Мы как-то говорили об этом с Бродским. “Это понятно, в стихах же все известно”, – сказал Бродский. Ему, конечно, было все известно. Но и тем, кто подражает настоящей поэзии, им тоже все известно. Они могут выйти на человеческом уровне.
После армии я перешел на прозу. Преображение произошло в 61-м году. Я бурил в Забайкалье. Была практика в институте. Мы жили в землянке. В это время Титов, кажется, взлетел. Все это вместе сложилось в какую-то платоновскую картину. Я попал в его внутреннюю стихию, толком его к тому времени еще не прочитав. Через степь и через землянку, через рабочий класс…
Чтобы заняться литературой, надо быть соблазненным современником своим. То есть примером живой возможности. Если стихи писать меня соблазнил Глеб Горбовский, талантливый поэт, уровня которого я никогда не смог бы достичь, то живой прозы я не знал. Последнее, что я живое прочитал, это был “Мелкий бес” Сологуба. Оттепельных вещей еще не было. Не было на что опереться. Но ходили слухи о слушателе Академии художеств Викторе Голявкине, от которого, в частности, в восторге была моя будущая первая жена, Инга Петкевич. А Инга с детства графоманила и писала огромные амбарные книги со своими девичьими сочинениями. С подачи Инги пришел к Голявкину, мы выпили с ним водки, я прочел его рассказы и пришел от них в восторг. Вот была отправная точка, от которой стало известно, что можно писать прозу. Голявкин видел жизнь как абсурд. Не зная, по-видимому, что до него был Хармс. И мои первые вещи, в частности, “Люди, побрившиеся в субботу” 1958 года, – это, конечно, Голявкин. Ничто не может быть забыто. Пропущенные обэриуты возрождались через незнание. Ранний Горбовский и ранний Голявкин были возрождением этих людей, когда-то погибших в лагерях.
А потом возникли первые оттепельные вещи из Москвы. В частности, возникли рассказы в “Тарусских страницах” Юрия Казакова. Это был хороший прозаик. Возникли какие-то литобъединения, где первой публикацией было – прочесть друг другу вслух вчера написанное. А поскольку первое литобъединение, в которое я попал, было от ленинградского объединения “Советского писателя”, где возникло, может быть, единственное оттепельное издание “Молодой Ленинград”, то издаваемый им раз в год альманах нашего ЛИТО и стал местом моих первых публикаций.
И там же, в “Молодом Ленинграде”, постепенно накопилась моя первая книга.
Глава третья. Тихой сапой
Моя первая книга, “Большой шар”, выходила в 1963 году. Чтобы книга вышла, я пошел на компромисс и согласился выкинуть из нее несколько вещей. Там не было “Сада”, “Жизни в ветреную погоду”, “Пенелопы” и других рассказов, которые я потом включил в “Аптекарский остров”. Но я легко пошел на компромисс, потому что я уже писал “Пушкинский дом”, первая редакция которого была закончена в 1964 году. Мой замечательный первый редактор Кира Успенская делала все для того, чтобы книга хотя бы появилась. Но как только она вышла, оттепель стала закрываться. Она легла на прилавок писательской лавки возле Клодтовых коней 8 марта 1963 года, а это совпало с открытием Пленума по идеологии. Но я успел проскочить с публикацией. Вместе со мной готовили к выходу первую книгу Рида Грачёва. Он не захотел выкидывать ни одной своей вещи, хотел выйти весь. И его книга не вышла. Это сломило его.
Книга вышла, и был слух, что ее собирались хвалить наши генералы-либералы: Паустовский, Корней