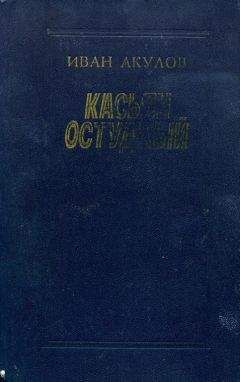— Иди отпирай, — Аркадий снял полушубок, прибавил в лампе огонь, застегнул пуговицы на рубахе, думая о том, чтобы не походить на испуганного. Постель на лавке закинул одеялом и сел.
Дверь рывком отворилась широко, с казенным распахом, через порог твердо ступил милиционер Пухов и, не опнувшись и не сняв шапки, крупно прошел к столу. Следом, не боясь выстудить чужую избу, с деловой важностью ввалились Егор Бедулев и Матька Кукуй. Тоже прошли к столу и тоже не сели и тоже остались в шапках. Мария замешкалась, прикрывая сенки, и дверь в избу стояла полой — через нее низом клубился мороз. В избе сразу стало холодно и по-чужому неуютно. Те, кто сделал все это, громко топали, двигали стулья, устраивались у стола, подчеркивая свою власть и неуважение к хозяевам. На ногах принесли много снегу, наследили по всему полу.
Милиционер Пухов, маленький и подсадистый, с широким намороженным лицом и коротким, но острым подбородком, заботно оглядывая стены и окна, пошатал стол, спросил хозяина, не повернувшись к нему:
— Фамиль?
Так как Пухов, обращаясь к Аркадию, не глядел на него, то Аркадий счел нужным не отвечать и, подвинувшись на край лавки, стал спокойно снимать валенки.
Пухов обменялся взглядом с Бедулевым, и последний гаркнул:
— Оглох? Фамилия?
— Ай ты забыл, Егор Иванович? — сказал Аркадий, снова укладывая с краюшку печи свои валенки один на другой.
— Ты давай, который, того этого, как тебя. Оглоблин гражданин. Арестован ты с этой минуты, и ни с места. И обуйся опять. Теперь же.
— Как-то больно легко это у тебя, Егор Иванович: раз, и заарестовал. А за какие такие провинности?
— В домзаке скажут.
Милиционер Пухов постучал железным с прищепкой наконечником карандаша и потребовал опять:
— Фамиль?
— Стало быть, Оглоблин.
— Имя и отчество? Без «стало быть».
В это время Машка, стоявшая под порогом, увидела, что Матька Кукуй, встав на лавку, полез потрошить божницу, кинулась к нему, с налету так ударила его, что тот повалился и едва не опрокинул стол с лампой.
— Ты где? — закричала Машка, замахиваясь на Кукуя. — Ты, что ли, дома, а? Дома — ты?
Матька успел с божницы выудить какую-то толстую затрепанную книгу и, поднявшись на ноги, положил ее на стол перед Егором Ивановичем. Машка было схватила ее, но Бедулев опередил:
— Сядь на место. Ишь ты, размахалась. Вот поглядим, что это такое. — И прочитал вслух: «Сам себе агроном».
Он большим пальцем заломил страницы и пропустил их с первой до последней; под коркой обнаружил семь рублей денег. Увидев их в руках Бедулева, Машка только сейчас вспомнила о полученном долге со Строкова, и пошла приступом на предсовета, который с чужими деньгами в руках оробел, растерялся и бросил их вместе с книгой на стол. Но Машка уж не могла остановиться в запале:
— Дай ухват. Да как начну, небо с овчинку вам…
Аркадий взял Машку за плечи и спрятал лицо ее на своем плече, усадил на лавку.
— Плюнь-ко, слышь? Что сама-то говорила?
Но Машка плакала такими глубокими слезами, что не могла остановиться, и у Аркадия внезапно, чего никогда не случалось раньше, сердце сжалось и замерло в ответной слезной тоске. Машка показалась ему маленькой, беззащитной девчонкой, а он, виноватый в ее горе, ничем не может ей пособить. Всегда сильный и непреклонный, он привык ухарски шагать напролом, думая только о своем успехе, но в сию минуту тонко понимал ее слезы и готов был плакать вместе с нею, чтобы стать неотделимым от нее навсегда.
— Ты уймись, — говорил он и ласково гладил ее по голове. — Все будет по-твоему. Разве не видишь. Что ж мы…
Егор Иванович поглядел на разутого, присмиревшего Аркадия и не только поверил в его трогательную нежность к Машке, а даже смутился и, повернувшись к милиционеру, поторопил:
— Ты давай, Игнат, как по форме-то?
— Какая уж форма. Сказано — пусть одеётся. Давай, Оглоблин, поживей как. Нам недосуг.
Аркадий отстранил от себя Машку и снова полез на печь за пимами. Не надев и держа их в руках, босый, подошел к Бедулеву, покорный, приниженный.
— Егор Иванович, ведь ты мое хозяйство знаешь. Теперь и скажи, по какому классу гнешь-то?
Бедулеву понравилась Аркашкина смирность, обрел силу, улыбнулся простой, соседской улыбкой.
— Истинная беда с вами, ей-богу, который. Игнат, скажи ты ему, скажи, чтобы знал он.
— Не по классовой ты взят, Оглоблин. На лесозаготовки Совет наряжал? Наряжал. Поехал? Не поехал. Мало тебе?
— Поеду, Егор Иванович. Помоюсь в бане — и куда хошь.
— Колхоза опять же сторонишься, — напомнил Бедулев.
— И в колхозе живут. Пиши. Черта ли еще. За четверых управлюсь.
— Ты можешь. Который.
— Мы с Марьей сегодня к тебе в Совет собирались, Егор Иванович, — продолжал унижаться Оглоблин. — Как муж и жена, чтобы законно. Ребенка ждем, Егор Иванович. Дурак был. Теперь куда хошь посылай — слова не скажу.
Бедулев сдвинул брови на Аркадия, будто не поверил его словам, потом с той же доброй суровостью поглядел на Машку, которая сидела потупившись и закусив уголок головного платка, чтобы не разрыдаться. Уловив на себе его взгляд, подняла свои длинные мокрые ресницы, бледная, строгая, заговорила сквозь слезы:
— Знать бы тебе, Егор Иванович, от какой беды-то упасла тебя.
— А ну-ка, сказывай, от какой такой беды? Что несешь-то?
— Вот то и есть — подох бы теперь.
— Игнат, Матвей, — Бедулев потерянно встрепенулся и засновал глазами. — Что они замышляли? Я говорил… Я вам что говорил?
— Да что ты, Егор Иванович, — собрав все спокойствие, заулыбался Аркадий. — Про хлеб она. Вот про хлеб, что свой отдала твоим ребятишкам.
— О хлебе ты, что ли? Или еще что, а? — Бедулев так и впился глазами в Машку, весь подался в ее сторону.
— Да о чем же еще-то, Егор Иванович. Ребятишки, али не жалко их.
Бедулев устало опустился на лавку и обе ладони распялил по столешнице. На спине его все еще играл гнусный озноб.
— Вот и гляди, Игнат, — Бедулев причмокнул губами и с трудной веселостью помотал головой. — Гляди и вникай, что у нас за народец. Язва на язве. Ведь семь потов сгонют, пока толку добьешься. Который. Ведь так выразятся, что как хошь, так и думай.
Егор Иванович передохнул свой испуг и наладился на благое рассуждение:
— И по человеку опять надо судить. Это мы тоже обязаны. Он сын партизана. Властям не вредил. Но, скажи, скорозя просолел старорежимной жадностью, потому как сторонится политкурсов, сходок, спектакля. Что теперь? Как с ним?
Милиционер Пухов пожал плечиками и, не угадав окончательного намерения председателя, подсказал:
— Взять, а там зря не обидят.
Но Бедулев вел свое:
— Значит, в колхоз подвержен? Только уж, это, давай без уклона, который.
— Да уж что, Егор Иванович, сказал же, и в колхозе живут.
— То ли еще будет! Дай-ко разгонимся! Да мы с разбегу на любую вышь сиганем с песнями. Говоришь, и в колхозе живут — не то слово, Аркаша. Ха-ха. — От намерения быть великодушным Бедулев совсем повеселел и душевно расхохотался. Он всегда внутренне побаивался и Оглоблина и Машки, зная, что они, оголтелые сроду, способны на самое отчаянное, но сегодня оба выказали себя неожиданно податливыми, покорными, и в Егоре Ивановиче стойкая азартная злоба к ним вдруг подтаяла, осела, а вместо нее возникло желание понять их. Когда Машка испугала его всего лишь неловким словом и сказала, что жалеет его ребятишек, он, уже не колеблясь, решил не делать им зла, чтобы и они знали его доброту. Аркадий с облегчением сознавал, что предсовета отчего-то удобрился и, может быть, дело не доведет до ареста. Усердно покаялся еще раз:
— Извиняй, Егор Иванович. Дурак был вовсе. Теперь семьей хотим с Мареей. Одним домом.
Бедулев супил на него свои жидкие белесые брови, однако строгости в них уже не было. Машка исподлобья, но чутко наблюдала за ним и, уловив в нем перемену, вся облегчающе вспотела, раскраснелась, по-детски слизнула с верхней губы жаркую испарину.
— Егор Иванович, я завсегда готова. Пусть Ефросинья только словечко, помочь там или что такое…
Она совсем обрадовалась чаянному, но по-прежнему слезно кривя рот, подошла к столу и так близко прижалась к его кромке, что живот у ней вдруг округлился и стал заметен. Егор Иванович покосился на нее и невольно оглядел всю. В ее расслабленном и припухшем лице он подметил ту женскую притомленность, которая появляется у беременных и за которую он любил Ефросинью с неутомимой тревогой. «По породе-то вылитая моя Фроська — набросает Аркашке полну избу, — но уж ублажит так ублажит — отца-мать забудешь, лети ее мать…»
— Но вот что, — он дружелюбно отстранил Машку от стола, — того-этого, сядь и не сверькяй. А ты, Аркаша, шевелись-ко, не постаивай: обувайсь, оболокайсь. Пойдешь с нами. Сядь, сказал, — прикрикнул он на Машку, вскочившую было со скамейки. — Пойдет с нами и за моим столом напишет заявление в колхоз, а утресь в лесосеку.