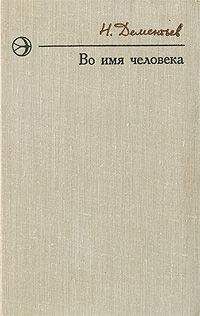— Да когда нам было заниматься Людой, если днем он на работе, вечером — на учебе?
— Так ведь вы-то, Елена Трифоновна, не работали, пока Люда не закончила пять классов.
— Вам-то что говорить! — по прежнему резко и обидчиво ответила Леля Трифоновна, губы ее скривились, она всхлипнула: — А я в Ленинграде всю блокаду вынесла, все здоровье на войне оставила, — и она заплакала. Людочка тотчас всхлипнула, и Модест Петрович перестал улыбаться.
Нина Георгиевна опять помолчала, договорила медленно:
— Я понимаю, что Модест Петрович был занят вечерами на своей учебе, понимаю, что и вам, Елена Трифоновна, было нелегко. Но ведь заставить Люду нормально учиться вы оба могли!
Леля Трифоновна и Людочка все плакали, Модест Петрович сказал устало:
— Да уж просто такие мы нервные, что ли, Нина Георгиевна… — и глянул на жену; а лицо Лели Трифоновны было теперь злым и упрямым.
Нина Георгиевна внимательно следила за ними, молчала. И тут мне стало ясно, и почему Людочка так легко плачет по пустякам, и тут же злится, и даже почему у нее решительно ко всему в жизни такое легкое отношение. Я представила семью Кусиковых дома: Модест Петрович, беззаветно любя дочь, усталый после работы, подчиненно молчит, а Леля Трифоновна, нервная и глупая, во всем потакает Людочке.
— Нилова, ты выйди, — сказала мне Нина Георгиевна и добавила: — Думала уж и тебя поругать за то, что ты взяла Люду на иждивение в учебе…
Я вышла из класса и бегом бросилась домой. Будто впервые я по-настоящему разглядела свою закадычную подругу.
Не вытерпела все-таки, рассказала маме о разговоре в классе после уроков, о том, что и меня Нина Георгиевна заставила присутствовать при нем, точно я была одной из виновниц плохой учебы Людочки. А мама сказала:
— Объективно говоря, Катенок, и ты, конечно, виновата: доброта должна быть умной, ведь люди-то разные нас окружают. Но вот как это получается… Модест Петрович учился по вечерам в школе и институте, сейчас заведует лабораторией… Елена Трифоновна тоже работает нормально, то есть оба они прошли нелегкий путь в жизни. Умеют различать и хорошее, и плохое в ней. Мама Симы Потягаева — она работает инженером в лаборатории Модеста Петровича — как-то говорила мне, что строже и требовательнее начальника, чем он, ей еще не приходилось встречать. А вот Людочку, свою дочь, оба они любят так безрассудно, что теряют объективность во всем, что касается дочери. Ты тут назвала жизнь Кусиковых глупой и нервной… Так оно, видимо, и есть. Многое пришлось перешить родителям Людочки, и от этого у них, конечно, нервы не в порядке… — Вдруг улыбнулась виновато: — Помнишь, Нина Георгиевна, будучи у нас дома, сказала, что «ваше лицо — ваш ребенок». Возможно, старшие Кусиковы и неспособны объективно оценить свою дочь, но весьма вероятно, что и характер Людочки создает нервность в жизни семьи.
Следующим экзаменом была физика — предмет, который я любила. Мне достаточно было только перелистать учебник да еще раз просмотреть задачи, что мы решали в классе. Юлия Герасимовна, наша учительница физики, прямо сказала:
— Уж за кого я совершенно спокойна, ребята, так это за Катю Нилову.
Людочка предыдущие экзамены, как и Плахов, сдала кое-как, то есть на тройки. А вот перед экзаменом по физике стала нервничать не на шутку. И тут вечером к нам пришла Леля Трифоновна. Похудела она еще сильнее. Узкие губы ее были ярко накрашены, брови и ресницы подведены тушью. Тяжелое впечатление произвела она на нас с мамой и отцом. Лицо Лели Трифоновны было злым, по при этом она жалобно плакала и униженно просила, чтобы ее Людочка готовилась к экзамену по физике вместо со мной. Я, конечно, согласилась.
На следующее утро Виктор с Людочкой пришли к нам домой. Мы все трое уселись за мой стол, стали повторять с самого начала, с механики. Я сидела посередине, Виктор — справа от меня, Людочка — слева. Или уж то, что я постоянно помнила, как Людочка перед всем классом публично призналась в своей любви к Виктору… Или то, что я чувствовала, как Виктор неожиданно и резко изменил свое отношение ко мне… Или то главное, что мне-то он нравился по-прежнему сильно, — только у меня было ощущение какой-то скованности, точно всю мою кожу обволакивал жесткий панцирь, холодный, безжалостный и чужой. Какое бы движение я ни сделала, как бы ни повернулась, этот панцирь все оставался на мне, избавиться от него было просто невозможно.
Читала вслух по учебнику я, Виктор и Людочка молча следили за формулами и слушали, но я постоянно чувствовала, даже не глядя на них, как они слушают меня, как сидят, как смотрят в книгу и друг на друга. И все же не могла взглянуть на них…
Через час или полтора я постепенно увлеклась материалом, обволакивающий меня панцирь стал почти неощутим. И когда мы разбирали полиспаст, изменение его подъемной силы с увеличением числа блоков, огибаемых канатом, я забылась, подняла голову от учебника, глянула на Виктора с Людочкой. Лица их были такими, будто они не слышат моих слов, точно меня даже совсем нет сейчас в комнате. Они улыбались за моей спиной так, как это бывает, когда парень с девушкой нравятся друг другу, когда все окружающее — второстепенное по сравнению с этим главным для них.
И я даже не спросила, поняли ли они то, что я прочитала, так вдруг пусто сделалось у меня в груди, а во рту появилась какая-то противная горечь. Сжалась, втянула голову в плечи, помолчала, но справилась с собой, продолжала читать… Даже не знаю, заметили ли они мою реакцию, во всяком случае, ничего не сказали.
Обедали мы у нас дома, мама сделала вкусные щи со свежей капустой и любимые Виктором чахохбили из курицы. За столом Виктор сидел рядом с Людочкой, оба они ели с аппетитом, оживленно разговаривали, чему-то смеялись. А мы с мамой молчали.
После обеда Людочка переставила свой стул у письменного стола так, что между мной и ею оказался Виктор. И когда мы разбирали задачи на трение — одна была особенно интересной: лежащий на плоскости шар в зависимости от величин коэффициентов трения качения и скольжения, а также величины собственного диаметра мог под действием одинаковой силы и скользить, и катиться по плоскости, — я снова увлеклась, забылась, подняла голову от стола… Правая рука Виктора лежала на плече Людочки.
Первый раздел — «Механику» — мы закончили уже в десять часов вечера, до этого мама успела накормить нас ужином. И вот, когда Виктор с Людочкой, весело попрощавшись со мной и мамой ушли, я неожиданно для себя выглянула в окно: они стояли на улице и целовались.
Странное существо человек. Умом я уже и до этого понимала, что должна заставить себя относиться к Виктору иначе, чем раньше, что не стоит он всех моих мучений и переживаний; даже то, что все между мной и им уже кончено, понимала… А здесь мне вдруг стало так обидно, горько и больно, что я просто опустилась на пол, обхватила голову руками и заплакала…
Подошла мама. Она наклонилась ко мне, обняла меня, поцеловала, стала говорить какие-то утешительные слова. А тут пришел отец — он на весь день уезжал в Кронштадт. Разобравшись во всем, он сказал негромко, ласково, но настойчиво:
— Ты, Катенок, можешь, конечно, перестать готовиться вместе с Плаховым и Кусиковой… Вон даже мы с матерью можем им сказать, чтобы больше не приходили к нам. Ты слышишь меня? — он замолчал, а я кивнула, что, мол, слышу; тогда он так же медленно выговорил: — Но есть две вещи, из-за которых тебе не следует делать этого. Во-первых, и Люда, и Виктор, как я понимаю, могут провалить экзамен, если перестанут набираться от тебя ума-разума. А во-вторых, — не сердись только на своего отца, Катенок, — эта ваша совместная подготовка к экзамену, как ни странно, полезна больше тебе, чем Плахову и Кусиковой. Ты понимаешь меня, Катенок?
Я подняла на отца заплаканное лицо, слова у меня по-прежнему не выговаривались. Тогда он, все не двигаясь и не улыбаясь, произнес какую-то фразу по-английски. Отдельные слова ее я поняла, а общий смысл не дошел до меня.
Тогда уж мама спросила:
— Что, что, Костя?
— Собаке хвост по кусочкам не рубят, советует английская пословица.
— Так ведь больно, папа! — выговорилось наконец у меня, как в детстве.
— Когда врач вырывает у тебя больной зуб, тебе тоже больно, а? — спросил он.
Вот когда отец так со мной говорит, у меня сразу же — это я помню еще с детства — проходит унижающая меня слабость, а затем появляются уже решительные поступки.
Не сумею объяснить, что такое особенное есть в моем отце, но в его присутствии сидеть на полу, как медуза, просто невозможно. Поэтому я встала.
— Валерьяночки, может, выпьешь? — уже насмешливо спросил отец.
И я ответила тем же тоном:
— Не хотела бы служить на вашем корабле и под вашим началом, капитан Нилов! Железный вы человек, капитан Нилов! — И повернулась к маме: — Нет, только подумай: такое отношение к родной дочери, а!..