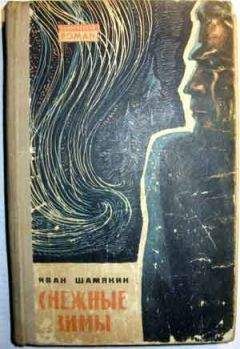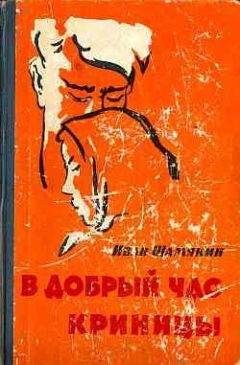Было время, когда дети обвиняли нас во всех прошлых грехах, наших и чужих, в тех, которые при объективном подходе можно было отнести за счет ошибок роста, становления, и в тех. что творились по воле, злой или больной, одного пли нескольких человек. Но мы, отцы, так же огульно, как огульно нас обвиняли, отметали всё, цеплялись за прошлое и невольно пристегивали себя к тому, к чему не имели отношения, что отрицали всей своей жизнью, работой и борьбой за осуществление идеалов, завещанных Ильичом. Мы так же огульно, без разбору, обвиняли и еще сейчас обвиняем детей, что они не такие, как мы, что, мол, куда им до нас, мудрых, непогрешимых, закаленных в боях. А по сути, всем нам, и отцам и детям, нужно немножко больше объективности, самокритики — той самой, о которой так много говорится.
Нам не следует думать, что дети хуже нас, а детям — что они всегда умнее. Лада проникает в тайны материи и даже антиматерии, но ока никогда не узнает того, что знает он, ее отец, что приобретено богатым опытом нелегкой жизни.
Каждому человеку — свое. И каждому поколению свое. И ничего нельзя зачеркнуть из того, что было. Дети должны учиться не только на наших героических делах, но и на ошибках прошлого, чтобы их не повторить. Истины общеизвестные, почти банальные. Их легко провозглашать. Но нелегко осуществить. Когда дети были маленькие, он изредка рассказывал им о своих партизанских делах, конечно, о самых героических. Они слушали с восторгом. Подросли — начали скептически улыбаться: не верили, что он такой герой. Видели обыкновенного человека, которому ничто человеческое не чуждо. А его обидело, что они равнодушны к его прошлому. Отдалился. Только теперь вот сблизился с дочкой, стал понимать. А сын далеко. Как найти путь к сыну? Что сделать, чтоб они поняли друг друга? Андрей Петрович все-таки спросил на прощанье:
— Когда на работу? Значит, не знает. Ловил рыбу.
— Не боишься, что я потребую, чтоб вернули на мое место?
Андрей Петрович хмыкнул.
— Не боюсь.
— Знаешь, что не вернут? Или метишь выше?
— Не знаю. И не мечу. Сам прошусь в институт.
— В науку?
— Зря я слепил глаза над диссертацией?
— Модным стало — идти в науку.
— Верное дело.
— Это правда: дело верное. Да только наука что-то не сильнее. Особенно сельскохозяйственная.
Андрей Петрович опять засмеялся.
— Подожди. Покончили с волюнтаризмом — двинем науку.
Уверенность — позавидуешь. А руководитель — посредственный. Для дела лучше будет, если он подастся в науку. Там только рекомендации дают, а здесь — приказы. И сколько среди них ненужных, невыполнимых! Жена сказала с укором:
— Где ты шатался? Тебе звонили. От Петра Федоровича. Просит зайти. Завтра.
— Я еду к Васе. Ночью. Симферопольским. Ольга Устиновна побелела.
— Что случилось?
— Ничего. Просто мне захотелось поговорить с сыном. Имею я право на такую прихоть?
— Неправда.
Увидел: Ольга подумала невесть что. В первый год она жила в страхе за здоровье и жизнь сына, пока не съездила к нему, не увидела — возмужавшего, бодрого.
Иван Васильевич обнял жену за плечи.
— Какая ты паникерша! Клянусь: это — моя фантазия! Ходил-ходил — и надумал. Встретил одного товарища с сыном. На рыбалку ездили.
Она заглянула в глаза — поверила. Молча сжала руку — поблагодарила, что он думает о сыне и хочет повидаться с ним. Но и другое ее тревожило.
— А как же там? — кивнула вверх.
— Подождут. Обходились два года.
— Ты недоволен разговором?
— Предложили отдел… Я ответил: только на свое место.
— Так оно необходимо тебе, это место?
— Мне необходимо, чтобы некоторые поняли…
— Опять воюешь? Боже мой!
— Два года я ни с кем не воевал. Можно наконец позволить себе такую роскошь?
— Тебе кажется, что не воевал. А сегодня приходила Милана. Жаловалась. Кто-то им сказал, что по твоему предложению горком назначил комиссию проверять институт. На что тебе еще задирать Будыку?
— Почему это он так испугался комиссии? Обычная общественная группа госпартконтроля. Что-то же нам, пенсионерам, надо делать.
Ольга Устиновна сказала неуверенно, осторожно:
— Ваня, а может, погодить с поездкой? Тебя просят зайти, а ты… будто удираешь. Что подумают?
— Я вольный пенсионер. У меня свои планы.
— А все же… — Чувства ее раздваивались: так хотелось, чтоб муж поехал к сыну, но не меньше — чтоб он скорей вернулся на работу. Сейчас такая ситуация!
— Я надоел тебе дома? — попытался пошутить Иван Васильевич.
— Не надоел. Но я не могла не видеть, как тебе необходимо быть в коллективе, среди людей. И на любой должности. Зачем тебе чины?
— Нет, мне нужен чин! Чтобы наиболее эффективно отдать свой опыт да и ту энергию, что накопил за два года отдыха.
— Ты на любом месте умеешь работать.
— Что-то тебя потянуло на комплименты. Собери чемодан.
— А может, хотя бы завтра?
— Оля, я не люблю отменять свои решения. Ты знаешь. У меня не часто возникало желание поговорить о сыном. К сожалению, не часто. К сожалению.
— О чем ты хочешь с ним говорить?
— Ни о чем. Просто так. О жизни. Может, ему будет легче служиться…
У матери глаза наполнились слезами счастья.
— …а мне воевать, как ты говоришь… с волюнтаристами. Слово-то какое! А?
Глаза жены мигом высохли.
— Ох, Иван, Иван! Когда ты угомонишься?
— Когда накроют крышкой. Да и тогда еще буду пускать биотоки и не давать кому-нибудь спокойно спать.
Появилась Лада из своей комнаты. Остановилась в дверях, взлохмаченная, хмурая, как всегда после того, как основательно посидит над квантовой теорией. Может быть, недовольная, что голоса родителей ей помешали.
— Слышу, предки ведут ученую беседу. На современном уровне. О биотоках.
Когда-то Иван Васильевич возмутился, услышав, как сын сказал вот так — «предки», а Лада через неделю повторила, конечно, неслучайно, это слово, и в ее устах оно прозвучало как шутка. Вспомнил это и еще острее почувствовал тоску по сыну. Лада везучая. Ей все удается. Нет, неправда. При чем тут удача или неудача? Лада — талант, помноженный на недевичью трудоспособность. За это он любит дочь и все ей прощает даже «предков».
— Познать тайну биотоков — до этого мы еще должны дойти. Но я боюсь, что люди не очень-то обрадуются, если кто-нибудь научится улавливать каждый импульс. Тебе, отец, было бы приятно, если б сидел где-нибудь некто и читал твои мысли? Все о чем ты сегодня думал, о чем вспоминал, о чем мечтал. Иван Васильевич на миг смутился, вспомнив, о чем: чем вспоминал, пока бродил по городским улицам, помолодевшим от снега. Лада как будто угадала его мысли. Представил, как бы все, наверное, усложнилось, если б в самом деле кто-нибудь сумел настроиться, к примеру, на его «волну», запеленговать в любом месте, в лесу, в постели, в самолете, и «вести» — день, два, неделю, записывать все, что приходит ему в голову. А может быть, наоборот, все упростилось бы? Люди значительно лучше понимали бы друг друга, проникнув в недра души, больше верили бы, меньше подозревали бы в тайных намерениях. Высказал дочери это, последнее, соображение. Она на миг всерьез задумалась. Но тут же скептически скривилась:
— Ты идеалист, папа. Тебе хочется все открытия науки использовать для совершенствования человека.
— И общества.
— Тем более это идеализм. Пепел Хиросимы не сблизил людей, а еще сильней разделил их на враждующие лагери. Вот тебе великое открытие!
— Неправда, Лада! — энергично возразила мать. — Пепел Хиросимы сблизил людей. Всех хороших людей.
— Слышишь голос матери! — поддержал Иван Васильевич.
— Я где-то читала, что у матери — голос сердца, а не разума. Боюсь, что, когда у меня заговорит сердце, я плюну на расщепление атома и поверю в прочность мира. В первом слове моего ребенка для меня будет больше смысла, чем в любой формуле квантовой механики. А покуда наоборот: я верю только в формулы. Но не верю, что, овладев метолом расчета сложных атомов, я стану лучше.
— Все это, дочка, слова из модных книжек. Проза. Мы с мамой отлично знаем, что ты не такая. И мне хочется, чтоб ты так же серьезно, как законы физики, изучала и другие законы — жизни, борьбы… Пепел Хиросимы разделил не людей, он еще больше разделил классы, которые никогда не могли и не могут примириться…
— Вот видишь — разница только в словах! И ты сам подтверждаешь мои мысли: значит, все-таки вражда, которая всегда кончается трагедией. Доказал еще Шекспир.
— Но есть не только пепел Хиросимы. Есть Дубна, куда ты ездила. И есть Братская ГЭС. И Асуанская плотина… Это объединяет люден. Люди все больше понимают, что будущее человечества здесь — в Дубне, в Асуане.
— Человечество, оно, папа, как атом, частицы его — классы, нации, государства, партии — несут заряды. А еще со школы я знаю, что взаимодействие заряженной частицы с атомным ядром, которое приводит к превращению этого ядра в новое ядро, называется ядерной реакцией. Взрыв — новое ядро. И новые заряженные частицы. Заколдованный круг. Ничто не может существовать без заряда. Где же перспектива покоя?