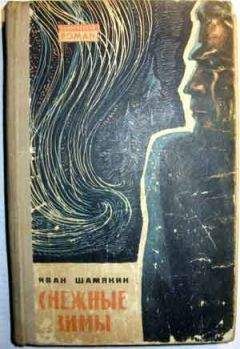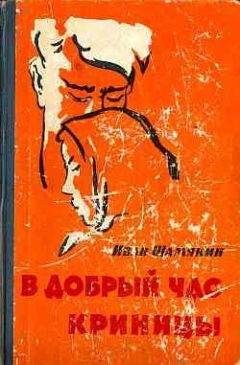Вернись, Вита! И я все тебе расскажу. Ты умная, ты поймешь. Зачем ты так наказываешь мать? Она не заслужила такой кары. Нет, не заслужила. Если б ты сама стала матерью, ты знала бы цену жизни. Она, знала, твоя мать. И я знаю. А ты не успела узнать. Вернись, Вита! Какой холодный ветер! И какие холодные волны. Размывают они косу или намывают? Небывало широкий разлив. Небывало? А может, он был таким и в ту снежную зиму? Снежные зимы! Большая вода! Иной раз они приносят беду. Но чаще дают радость — добрый урожай. Вита не верила этому. Как она писала? На песках — высыхает за неделю, на торфяниках — держится до июня. Выходит, снежные зимы не дают здесь урожая? Гудят тракторы. Где-то на базе. Выходят на посевную. «Кто теперь на конях пашет? Тракторами всё, товаришок». Да, тракторами. Вон они гудят! «Она девка смелая. А челн добрый». Ты мудр, дед. На твоем челне можно до Киева доплыть. Но зачем Вите плыть до Киева? А почему не плыть? Назло всем. И для разрядки. Я, кажется, становлюсь скептиком и паникером. А мне теперь нужны спокойствие и сила… Спокойствие и сила. На двоих — на себя и Надю. Зачем стою здесь, на этом ветру? Надо же что-то делать. Дать телеграммы во все пункты по речке… И дальше — по Припяти…
Куда можно доплыть за три дня? Гудят тракторы… И зазвенел звонок. Где-то ближе. Иван Васильевич не сразу сообразил, что звонят в школе. А понял — содрогнулся. Припал лбом к старой вербе и застонал. Хотелось зубами грызть дерево.
…Виталию нашли далеко — в Петринове, в больнице, с тяжелым воспалением легких.
Будыка поднялся со своего кресла-трона, раскинув руки, радостно приветствовал нежданного гостя.
— О-о! Труженик полей! Ура! Нерушимому союзу села и города… — И осекся на полуслове. — Что с тобой, Иван?
Иван Васильевич армейским широким шагом подошел к столу, дрожащей рукой расстегнул пуговицу плаща, выхватил из нагрудного кармана письмо, которое жгло сердце, пальцы.
— Ты писал?
Будыка схватил письмо, быстро пробежал, передернул плечами.
— Что ты! Зачем это мне?
— Ты знаешь, что ты сделал?
— Надя? — Будыка побледнел. — Иван! Как ты думаешь обо мне? За кого считаешь?
— За подлеца!
— Слушай!.. Что бы у тебя ни произошло, не забывай, что ты не в отряде, не в землянке.
— Письмо написано на твоей машинке… этой, — Иван Васильевич кивнул на приемную. — И не одно. Это тоже. Установлено экспертизой.
Будыка вспомнил посещение следователя, который вежливо попросил разрешения проверить машинки, и, охваченный еще не осознанным страхом, медленно опустился в кресло. На залысинах выступили крупные капли пота. Какой-то момент сидел неподвижно, потом стал лихорадочно нажимать на кнопку звонка. Секретарша появилась молниеносно.
— Клепнева! — не попросил — крикнул так, что закашлялся. Вытер платком губы, лоб, испуганно спросил; — Что с Надей?
Иван Васильевич не ответил. Смотрел на дверь. Ждал с таким чувством, с каким не раз поджидал в лесу зверя. Будыка хрипел неестественным голосом, испуганным, заискивающим:
— Иван, как ты мог подумать? Разве я когда-нибудь подводил тебя? Выдал нашу тайну? Если б я хотел, так сказал бы Вите на свадьбе… Мы танцевали…
Напоминание о Вите передернуло Антонюка, резануло по сердцу больно. Объяснять этому человеку, что такое настоящая трагедия, не мог, не имел сил. Силы нужны, чтоб как-нибудь удержать себя в руках и выяснить… Для себя выяснить. Никого не покараешь. Ни по какому кодексу. Ни по уголовному, ни по моральному. Написанное — правда. Наоборот, сам он достоин кары за то, что утаил ее, правду, выдумал свое отцовство. И Надя… Выяснить хочется одно: зачем было написано это письмо? С какой целью? Он же просил как друга, как человека.
Неслышно отворилась дверь — и вкатился Клепнев, как всегда с усмешечкой, веселенький, неся новый анекдот, который должен был смягчить шефа, если тот почему-нибудь разгневан. Будыка тяжело поднялся, выбросил через стол руку с письмом.
— Ты писал?
Клепнев посмотрел в глаза Антонюку и, не взглянув даже на письмо, не взяв его, ответил с наглой улыбкой:
— Я писал.
…Допрашивали пленного карателя. Вопросы задавали все, Будыка переводил. Отвечал фашист смело, толково, давал очень полезные сведения. Антонюк думал: «Не дурак, знает, как спасти свою шкуру». И вдруг начальник особого отдела бригады Гогаридзе, который просматривал документы пленного, протянул ему, Антонюку, фотографию. На карточке — виселица, на ней в петле — их связная Галя Михальченко, живая еще, с раскрытыми глазами, в судорогах… А внизу он, этот, молодой, красивый, с поднятой ногой — только что выбил чурку из-под Галиных ног. Никто и глазом не успел моргнуть, как Антонюк в упор, в лицо — в разинутый рот, в глаза — выпустил всю обойму. Впервые за войну вот так — в упор. Опомнился, только когда Будыка, комиссар, Гогаридзе скрутили руки, отняли пистолет, повалили на кровать, прижали к стене, а он бился, как в эпилептическом припадке…
…Стрелял в толстую, наглую морду. Так же в упор. Гремели выстрелы: бах, бах, бах… Но тот сразу упал. А этот не падает. Почему эта толстая паскуда не падает? И все так же нагло ухмыляется. Пули пролетели мимо? Нет, загодя скрутили руки. Стрелять нельзя…
Стрелять не из чего. Сбросив это наваждение, придя в себя, обмякший, залитый холодным потом, Иван Васильевич посмотрел на свои пустые, липкие от пота ладони, с отвращением вытер их о плащ. Будыка кричал, Клепнев говорил тихо, с ухмылочкой. Не сразу дошел смысл их разговора.
— Нет, ты посмотри, Иван! Видал такого типа?
— Валентин Адамович, зачем же так? Что я крамольного совершил? И разве это первая тайна, которой ты поделился со мной в дружеской беседе? Конечно, я понимаю, Ивана Васильевича разгневало то, что ты выдал его пикантную тайну. Но ведь не ты писал анонимки. И я не донос написал. Открыл правду. Не люблю обмана.
— Ты кому это тыкаешь, холуйская твоя душа?
— Холуйская?! — Клепнев на миг сорвался, кинулся к столу, сжав кулаки. — Значит, холуйская?.. Так, так… Спасибо, Валентин Адамович. — Но тут же осекся, снова вошел в свою роль: — Зачем же так, Валентин Адамович? Не делает это чести такому ученому, как вы, — обидеть маленького человека, своего подчиненного. Нам с вами работать. И я бываю полезен. Я нужный… Я — свой.
Иван Васильевич не выдержал — тошно стало. Пошел к двери. Но пошел не мимо Клепнева. Пошел на него. Сквозь него. Как слепой. И Клепнев испугался — отступил. Но не в сторону. Отступил к двери, грозя пальцем: «Ну, ну!» Спиной отворил дверь, чуть не сбив с ног секретаршу, которая слушала под дверью. В коридоре умолк, побежал, трусливо оглядываясь. Нырнул куда-то вбок. Ивана Васильевича догнал Будыка, задыхаясь, будто пробежал километр. От возмущения задыхаясь, от гнева. Пошел рядом.
— Видел, какую змею пригрел? Какая гнида! Сукин сын! А? Подонок! Сегодня же духа его не будет! Ты, как всегда, чуял. Куда ты, Иван? Расскажи толком, что там случилось. Что с Надей?
Иван Васильевич остановился у лестницы, повернулся, выдохнул Будыке в лицо:
— Пошел вон!
И осторожно стал спускаться по ступенькам.