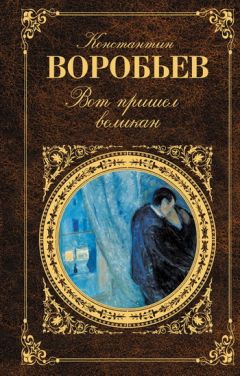Я ничего не тронул на тарелке Ирены, — туда я еще утром положил самую крупную и твердую редиску, самые спелые вишни и лучший огурец.
— Ты не бойся, — вслух сказал я пустому стулу, на котором она должна была сидеть. — Я тебя никогда и ничем не обижу, и пусть мир будет наполнен одними чертьми… нет, чертями, я все равно не отступлюсь от тебя!
„А как ты это представляешь себе?“ — спросила меня невидимая Ирена.
— Не знаю. Этого я не знаю… — сказал я. — Давай лучше выпьем еще. Ты же сама говорила, что тракия хорошее вино. Я все время буду сидеть поодаль от тебя, ты ничего не бойся.
„Конечно. Ты никогда не посмеешь испугать меня или обидеть“.
— Никогда! Я очень боялся пригласить тебя к себе.
„Почему?“
— Я подумал, что ты поймешь это неправильно. Просто дело, наверно, в том пенсионерском поверье, что будто жизнь таких вот перерослых одиночек, как я, заполнена различной сексуальной пошлостью.
„Этого я в тебе не боюсь. Но есть ведь и другое — моя собственная для тебя высота, на которой я хочу оставаться. Разве ты не потерял бы какую-то долю уважения ко мне, если бы я на самом деле сидела сейчас здесь?“
— Да, потерял бы. Впрочем, нет. Я бы тогда просто насторожился… Нет, опять не то. Это трудно объяснить словами.
„Но потеря, значит, была бы?“
— Да. Ты всегда должна оставаться на своей высоте. И хорошо, что я не решился пригласить тебя. Это значит, что у меня тоже есть своя высота, ты не находишь?
„Я ведь тебя еще не знаю“.
— Но я же постеснялся пригласить тебя?
„Ну для этого достаточно элементарного чувства такта: я ведь замужняя женщина“.
— Как же мне быть?
„Не знаю. Мне пора домой“.
— Ты всегда будешь торопиться уйти от меня?
„Всегда“.
— Возьми своей дочери шоколадку. Как ее зовут? Иренкой?
„Нет, Аленкой“.
— Ну, прощай. Счастливой тебе дороги, — сказал я.
В ту ночь мне снились белые горы, а над ними, в небе, громадный черный шар с пронзительно сияющим на нем пятном…
До выхода на работу я восстановил водительские права, успел перепечатать и отослать в молодежный журнал повесть, безрезультатно наведался в милицию к своему следователю, закрыл бюллетень и отрепетировал предстоящий разговор с директором издательства о своей драке. Я даже составил конспект его предполагаемых вопросов и ответов, и моя ночная история приобрела на бумаге какую-то книжную убедительность, потому что в своих ответах директору я вынужден был отступать от правды. Я утаил, например, свой телефонный разговор с Иреной и не сказал, что первым ударил одного из нападавших. Поразмыслив, я решил удовольствоваться тут не двумя бутылками тракии, как сообщал следователю, а всего лишь одной, — не может того быть, чтобы самому директору не приводилось выпивать бутылку сухого вина! Взамен всего скрытого мне очень хотелось увеличить число бандитов и вооружить их не бабьим чулком с оловяшкой, а чем-нибудь посолиднее и потипичнее, ну хотя бы финками, но это я не стал изменять.
Понедельник правильно считают несчастливым днем — ведь никому не известно, хорошо или плохо провел воскресенье тот, от кого зависит твое благополучие. Спускаясь во двор, я загадал на количестве лестничных ступенек, и вышел нечет. Спидометр „Росинанта“ показывал сто семнадцать тысяч девятьсот одиннадцать километров, и на мусорном ларе сидели и вещующе мяукали три черных приблудных кота.
Уже тускнела и по-июльски жухло коробилась листва городских деревьев, и небо было пропыленно-седым и томительным, не сулившим добра.
Ни на мосту, ни на берегах реки не было удильщиков, и вода чудилась густой и вязкой, как расплавленный гудрон.
„Росинанта“ — давно не мытого и оттого, казалось, еще больше мизерного и сгорбленного, — я оставил прямо у подъезда издательства, чтобы на обратном пути все время видеть его с площадок лестницы, — крепость свою и защиту. В кабинет директора я прошел корабельной походкой. Он собирался звонить и уже снял трубку, поэтому, может, и не ответил на мое приветствие. Мы виделись с ним во второй раз, но он смотрел на меня неузнавающе, и тогда я сказал, что я Кержун.
— Ну и что? — занято спросил он. — Вы думаете, этого достаточно, чтобы разговаривать со мной от дверей и в шляпе?
Я решил, что дело мое тут дохлое, но все же объяснил со своего места, почему не могу снять шляпу.
— У меня там была рана, — сказал я.
— Какая рана? Где? — возвысил он голос.
— На затылке, — сказал я тоже неестественно громко.
— Да вы, собственно, по какому вопросу ко мне?
Он меня не узнавал, просто не запомнил, и я плохо соображал, зачем пошел к нему от дверей не посередине ковра, а по его обочине, кружным путем по паркету, трещавшему под моими ногами, как крещенский снег. Директор кинул на рычаг телефонную трубку, и по его тревожному торканью руки над столом было ясно, что он ищет кнопку звонка.
— Я Кержун, ваш новый сотрудник, — выкрикнул я и остановился в шаге от кресла для посетителей. Стало так тихо, что я слышал стрекот директорских ручных часов. Он что-то сказал, чего я не расслышал, а переспросить не осмелился.
— Садитесь, — предложил он. У него были трудные ореховые глаза с кавказской обезволивающей поволокой, и смотрел он на меня заинтересованно и насмешливо. — Так что с вами случилось, дорогой товарищ Кержун? Бюллетень у вас есть?
Я сказал, что есть.
— Сдайте его в бухгалтерию, приступайте к работе и запомните, пожалуйста, мой совет: если не умеете пить водку, потребляйте квас. В любом количестве!
В туалетной я выкурил две сигареты, потом пошел приступать к работе.
На Вереванне было какое-то диковинное платье, отливавшее роскошной купоросной зеленью. В комнате сладко пахло сырой пудрой и леденцами. Вераванна встретила меня рассеянно-недоуменным взглядом, будто хотела спросить, что мне угодно.
— Велено приступить к работе, — сказал я ей сочувственно, после того как поздоровался. — Вы не находите возможным подать мне руку?
— Кажется, первым протягивает руку мужчина, — заметила она, покосившись на мою шляпу. Я сказал, что, значит, я ошибался, думая на этот счет иначе, и мы, что называется, поручкались ни горячо, ни холодно. Мой стол был завален разным бумажным хламьем, и я прибрал его, сложив бумаги стопками по краям. Вераванна, огородив лицо белыми колоннами рук, чутко прислушивалась к тому, что я делал. По-моему, она читала все ту же рукопись.
— Вам не кажется, что это похоже сейчас на письменный стол Льва Николаевича? Что в Хамовниках? Который с решеткой? — спросил я ее о своем столе.
— Нет, не кажется, — ответила она из-за локтя.
— Жаль, — сказал я немного погодя. — Но вам, конечно, встречались в литературе насмешливые замечания о Толстом — как он выносил по утрам свое ночное ведро?
Она убрала со стола локти и величественно обернулась ко мне вместе со стулом.
— Ну допустим. И что вы хотите этим сказать?
— Я хочу сказать, что это негодовал раб на то, что кто-то брал на себя его обязанности, — сказал я. Ей, конечно, трудно было понять меня в ту минуту, — я ведь разговаривал не с нею, а с собой: мое унизительное поведение в кабинете директора, эти его нелегкие восточные глаза, набитые уверенной независимостью и насмешливостью, мужской и, наверно, искренний совет мне насчет кваса, мои немые и благодарные поклоны ему при уходе, — я опять пошел почему-то не по ковру — все это было до того нехорошо, противно и разорительно, что мне обязательно требовалось обрести себя, прежнего, каким я был на самом деле или старался быть, и ночное ведро Толстого понадобилось мне для самобичевания, только и всего. Но Вереванне трудно было понять это. Ее чем-то встревожил негодующий раб, упомянутый мной, и она, раздумно помедлив, вдруг напрямик спросила, был ли я у директора. Я безразлично сказал, что был.
— Ну и как?
— Что именно? — не захотел я понять ее.
— Побеседовали?
— С обоюдным удовольствием, — сказал я.
— Представляю себе, — проговорила она с усмешкой и огородилась локтями. Я прикинул, как бы подипломатичней спросить у нее о причине отсутствия Лозинской, — то ли назвать ее „коллегой“, то ли „вашей подругой“, но в это время меня позвали к Владыкину.
Вениамин Григорьевич по-прежнему внушал мне чувство растерянности и недоумения: я не мог до конца поверить, что он — главный редактор издательства, и дело было не в том, что эта должность не подходила ему, но он сам как-то не вписывался в нее, — своим притаенным житьем в нашем сутолочно-кооперативном доме, не вписывался зарезанной мною для него курицей. К этому еще прибавлялась младенческая кротость его глаз и эти горестные молескиновые нарукавники! Кабинетик у него был крохотный, с единственным продолговатым окном. Овальная верхушка его веерно разделялась узкими деревянными планками, между которым церковно горели косячки витражного стекла. От этого в кабинете реял пестрый и какой-то келейно-благостный полусвет. Стол стоял в створе окна, и Вениамин Григорьевич сидел за ним уютно и степенно. Я снял у дверей шляпу и поклонился, но не глубоко. Он поклонился мне тоже и плавным выносом руки показал на стул, глядя на меня тихо и прискорбно. Тогда я неизвестно почему — и всего лишь на короткий миг — мысленно увидел перед собой портрет своего отца, помещенный лет пять тому назад в газетах. Отец был там в шлеме, с четырьмя шпалами в петлицах и с большими, наверно, синими, как и у Вениамина Григорьевича, глазами, но смотрели они у отца смело и непреклонно. Мне впервые подумалось, что я, должно быть, ни в чем не похож на отца, и, уже сидя на стуле, под оторопелым взглядом Вениамина Григорьевича надел свою соломенную шляпу, как и предполагал носить постоянно — чуть сдвинуто на правый бок.