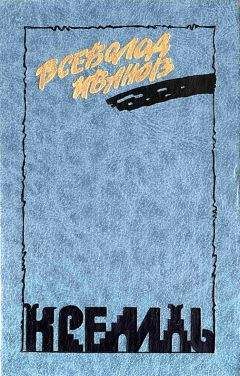Налево был темный свод храма Христа Спасителя, желтый забор вокруг, затем парапет набережной. Каменный мост — напротив — Дом правительства, образовалось нечто вроде опрокинутых качелей, посредине которых плыл Черпанов, — два столба с перекладинкой, причем, перекладинку изображал мост. Ошеломленные, они посмотрели друг на дружку и побежали. Черпанов плыл, но так как вид его был странный, то к нему направился катер речной милиции, он прибавил силы, плыл хорошо, но эти пять фигур с необычайной быстротой бежали через мост — черные с белыми полосами.
Они добежали до моста, катер догнал его у моста тоже, он выскочил и побежал: Дом правительства, как огромный кулак, вознесся за ним. Он бежал впереди, они его встретили, он нырнул, они пересекли улицу и скрылись там, где строят и разбирают дома, он проскочил перед трамваем, они отразились на кирпичном цвете трамвайного вагона. Милиция за ними. Раздался свисток.
— Кто поймает первый?
— Пойдем домой, там нас ждут не менее любопытные события!
— Любопытно, поймают или нет?
— А это разве важно? Они не учли его силы и сами погибнут при этом, да и он тоже.
Мы постояли. Я вспомнил про человека, окликнувшего доктора, и мы вернулись. Перед дверями в зеленом кресле сидел М. Н. Синицын.
— Мы привезли кресло, а вы разве вернулись, Матвей Иванович? Приезжаем, кресло тов. Черпанову, а тут испуг — и все забились кверху. За кого они нас принимают? Никто не берет кресло. И передать некому! Все удрали наверх, не можем же мы оставить квартиры, вот мы и решили кого-нибудь подождать. Хорошо, что вы пришли. У меня готов для вас подарок, Матвей Иванович.
Стояли козлы, доски, приготовленные для стола, кушанье сгорело, его убирал кто-то, чрезвычайно сконфуженный своей ролью.
Мы столпились у входа, возле кресла, оно разинуло пасть, как бы моля о хозяине, оно удивительно походило на Черпанова, когда тот упал возле воды, после удара Лебедевых, оно безнадежно смотрело на ворота, поминутно меняя людей, а не они меняли его.
Я много раздумывал по поводу кресла. Вот символ спокойствия! Вот где человек намеревается как будто просидеть всю жизнь, обтягивает кожей, крепкой материей, сидит, обдумывает, прикрывает, посылает корабли в экспедиции, учит детей, обдумывает комбинации, в общем, успех должен сопровождать это сидение — палисандровое и черное дерево, и если неудачно — трах, представление кончилось, как в театре, человек летит вверх тормашками, не насладив тщеславия и не добыв неистощимых денег! Боюсь, не в этом ли особняке началась его честолюбивая карьера и не сюда ли оно вернулось, в этих комнатах и в нем есть что-то общее, оно даже как-то радостно улыбается, смеясь над людьми, которые хотели избавиться от него и доставили величайшее удовольствие. Конечно, оно предпочитало б, чтобы в нем сидел Л. И. Черпанов, но что ж поделать, можно примириться и на другом.
— Припоминается мне… На минутку на его ручку присел доктор.
— А, Синицын, заграница? Нет, я все еще не управился. Но сегодня мы выезжаем непременно. Делегацию мы догоним?
— Боюсь, что при всем желании, вам ее не догнать.
— Я смогу дать потрясающее интервью.
— И интервью вам не дать. Делегация вчера уже возвратилась. Они очень плодотворно съездили и очень довольны.
Доктор несколько был сконфужен, не тем, что ему не удалось съездить за границу, а тем, что он собирался сегодня выехать, но он мгновенно оправился.
— Ну что ж, я рад, что избавлен от тяжелой обязанности давать интервью. Как ни приготовляй, но всегда постараются подсунуть тебе гадость. Мне двадцать семь лет, и еще много раз успею побывать за границей, я об этом не грущу, но я достиг самого главного. Я могу поставить точный диагноз. Как дело с нашими больными? Я их оставил на ваше особое попечение.
На лице М. Н. Синицына выразилось смущение. Да и на остальных тоже, видимо, они сочувствовали ему. М. Н. Синицын рад бы был потушить этот разговор, но он не особенно любил отступать, поэтому для того, чтобы привести себя в должный вид, он переспросил с точностью, всегда доказывавшей его внутреннюю тревогу:
— Вы говорите об ювелирах? О братьях?
— Да, я говорю о моих пациентах. Как их здоровье?
— А, здоровье их отличное. Даже, я бы сказал, слишком.
— Вот это и мне казалось удивительным. Приступы… которые должны бы, судя по поставленному диагнозу, показать их неизлечимость полную, казались мне неправильными. Я уже говорил вам, что увидал в этом травму психологического свойства, наиболее легкую из всех, но маниакальный бред указывал на то, что они больны. Неизлечимость мне казалась, однако, ошибкой.
— Вы уже мне об этом излагали. — М. Н. Синицын хотел замять этот разговор, но доктор желал высказать свои мнения, он как бы готовился к тому, чтобы изложить их пред ученым обществом, но я чувствовал что-то неладное в том, как глядел М. Н. Синицын, но доктора было трудно остановить.
— Совершенно верно, у вас мало знаний, но у вас прекрасное чутье, и мы с вами великолепно сработаемся, М. Н. Итак, я стал думать: что же упущено? Все знакомые переспрошены, братья что-то перенесли для того, чтобы испытать такое потрясение, родных у них мало, и они здоровы, следовательно, вопрос мог идти только о любовном потрясении, о таком, что они скрывали, не желая этого человека выдавать. Они любили одну женщину, для меня это было ясно. Когда я с ними — в минуты прояснения их рассудка — разговаривал, — они подробно и с легкостью рассказывали свои похождения, обычные похождения и ухаживания, сходили в лес, где-то сошлись, расстались, но за полгода до болезни нить их рассказов прерывалась. Они занялись работой — и тут они начинали говорить о короне американского императора, над которой, будто бы, начали работать, вернее, разрабатывать план. Затем, за две недели до их болезни, пропадает из ювелирно-часовой мастерской громадное количество золотых часов. Знакомых у них не было. Вопрос в том, с кем они ходили в кино? Я начал расспрашивать о том, какие они картины видали в кино, хотел бы по этому установить, ведь знакомство могло быть случайным, уличным. Нет, ни в кино, ни в театре за полгода они не бывали, следовательно, эта возможность миновала. Однако некоторые намеки на то, что в их комнате бывала женщина и девушка с узким лицом, были. Но это только намеки, которые мне удалось достать один раз, но юридически это не значило ничего.
— Решительно ничего, — сказал М. Н. Синицын, — тем более, что вы влюбились в эту девушку.
— Обождите, но тут товарищам будет интересно более узнать, как я на нее наткнулся. Никаких следов! Ни на чем! Даже из памяти вытравлено тщательнейше. Но должна быть необычайная красота и необычайная несчастность. В чем должно было заключиться несчастье ее для таких людей с крепкой волей, упрямых и твердо идущих к своей цели, как братья? Явно, что в полном безволии и в редкой, какой-то ювелирной и классической красоте, но человек, такой, который не знает, кого же предпочесть, человек, который может постоянно уйти из-под вашей воли, которого надо бояться. Их разговоры были, наверное, страшно мучительны, целыми ночами мешали им работать, они стали, работая, и выдумывать наиболее трудные сочетания, чтобы показать, что каждого воля сильнее, чем у брата, — вот здесь-то и возникла идея американской короны, вначале шутя, в поисках какого-то необычайного заказчика, а затем углубляясь — я нашел большое количество литературы, посвященной Америке. Я стал осматривать комнату, где они жили, их платье, в котором они работали, они парни были нежные и добрые, очень хорошие ребята, мне их было искренне жаль, помимо того общественного значения, которое приобрела болезнь, связанная с ними эпидемия слухов! Мне хотелось найти на их платье следы рук женщины, какая-нибудь стежка придает значение, хотя где же отыскать ее в трехмиллионном городе, где много классически красивых и несчастных безвольных девушек с узким лицом. Ах, это узкое лицо и узкие руки! Сколько я их встречал на Петровке! Я осматривал каждую пришитую пуговицу, и так как они рвались от порывистых движений, то все они оказывались новыми — и вам понятно, что они одной мастерской. Я стал шарить в столах «Мурфины». Несколько разных сортов! Они их могли купить случайно, но их должны выделывать до самого последнего времени. На толкучку они не ходили, знакомых спекулянтов у них тоже не было. Следовательно, их мог доставить только человеку, у которого по настоящее время имеются запасы пуговиц. Я посмотрел справочник, зашел туда, мастерская закрылась как год, но девушка с узким лицом была. Теперь я проделал следующее: в беседе с братьями я сделал резкое движение, так что оторвалась пуговица от брюк, и, положив на стол сломанную пуговицу, я сказал: «Вот находятся люди, которые говорят о преимуществах частного труда над общественным, а вот вам разительный пример — государственная пуговица цела, а пуговица, изготовленная «Мурфиным», лопнула». Они изменились в лице и резко отозвались о частной собственности. Я быстро переменил разговор, дабы не утомлять их внимание. Предо мной возникла такая картина, что преступление должно быть случайным и неудавшимся, причем, я и до сего времени не знаю: было ль у них золото, как они утверждают, — было, но взяли ль его преступники? По-моему, золота не было. Я с ней беседовал. Картина такова. Вы увидите ее подтверждение. Две сестры. Обе здоровы. Хотя и не голодали, но в деньгах нуждались. Задумались над вопросом о бандитизме, раньше чем заниматься спекуляцией, которой их учил заниматься дядя Савелий, и подумали, что таким способом, пожалуй, легче достать деньги. Шли разговоры насчет выбора, не колебались и страха не испытывали, но в одиночку преступления совершить не могли. Шли на вечеринку, встретили… Возник вопрос: удобно или не удобно взять их с собой, а пока пошли потолкаться по рынку, над которым много задумывались в связи с последними разговорами с дядей Савелием. Заметили торговца, продающего драгоценности. Кто-то не то в шутку, не то всерьез сказал: «Ограбить бы кого-нибудь». Мысль понравилась. Быстро составили план. Рынок стал закрываться. Начали следить за торговцем, пошли за ним с рынка, но ограбить не удалось, помешали. Тогда сестра вспомнила молодых ювелиров. Иногда они брали работу на дом, а тут хвастались, что им дали починить несколько хронометров золотых, и они починены. Позвали братьев. Пришли, послали вперед по жребию Осипа. Пошел и, постучавшись, сказал: «Жилищная комиссия по осмотру квартиры». Впустил. Стал осматривать квартиру, ходил минут 20–30, но никаких намеков на хронометры не нашел. «Надо решаться или уходить». Но раньше сестры уговаривали — «не причинять вреда», а тут вред выходил — надо было допрашивать. У Осипа был револьвер. Тот выхватил и наставил. Ювелиры сказали, что ничего нет. (У них, действительно, ничего не было.) Стал искать сам. Но тут вошли сестры, которые, увидев револьвер, закричали: «Осип, брось!» Ювелиры тоже закричали. Тогда Осип бросился бежать. Сестры больше не появлялись. Вначале ювелиры думали, что ослышались, но затем решили, что она — наводчица. Они были у ее родителей. Вы сами испытали, как они могут производить чарующее впечатление, когда захотят, и как их трудно вывести из себя, мы тоже испытали. На них, людей наивных и замкнутых, родители произвели впечатление полной честности, помилуйте, не жалуются, что их разорили, и с охотой поступили на государственную службу! Они считали, что это уже огромный перелом для человека, если он поступил на государственную службу. Теперь надо было сказать родителям, но в то же время утаить, дабы их не расстраивать, вообще, решили забыть и работать, но разгоревшееся честолюбие пошло дальше, они вообразили, что если желают их ограбить — то хотят отнять какое-то необыкновенное сокровище. Вот тогда они и начали всем встречным рассказывать о короне американского императора. Казалось бы, они должны были скрытничать и держать про себя, но нет, всех хотели уязвить — и, может быть, даже повергнуть. Отсюда можно проследить рост легенды о короне американского императора. Место, где они жили, — возле Сухаревской башни — давало обильный плод для того, чтобы легенду эту разнести по Москве. Они бродили по рынку и беседовали, к тому же, стали выпивать, а на рынке бывает до 100 000 человек ежедневно. Происшедшее ограбление, конечно, не имеет связи с ними, но повлияло на их душевное расстройство чрезвычайно…