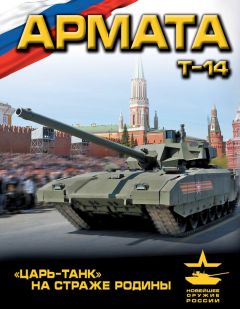— Хотелось бы мне посмотреть, Катюша, как вы живете…
Катя обрадованно взглянула на него своими водянистыми глазами и, решив, что она возбудила–таки к себе интерес доктора, ответила:
— О, я буду так рада! Заходите к нам в общежитие. Вы, вероятно, никого здесь не знаете, вам бывает скучно…
— Нет, спасибо. Я о другом. Мне бы хотелось знать, такой ли у вас беспорядок дома, какой царит в наших палатах? Неужели вы живете так же неуютно, как и наши больные? Думаю, что не так.
— Конечно, доктор, — поторопилась разуверить его Катя. — Конечно, не так.
: — Ну, а почему же тогда, — спросил Ветров, — вы не замечаете беспорядка в палатах? А если замечаете, то почему проходите мимо? Ведь первая и основная ваша обязанность — заботиться о раненых. Поверьте, они заслужили ваше внимание и имеют на него полное право. Вы должны относиться к ним чутко, жертвуя даже своими интересами. Вы — женщина, и не мне бы говорить вам о заботе и чистоте. Я не буду рассказывать, что надо сделать, чтобы наши больные чувствовали себя как дома. Вы сами должны это увидеть. Думаю, что одной недели вам хватит на то, чтобы наши палаты изменились. Вот все, что я хотел вам сказать.
Катя намеревалась по обыкновению что–то возразить, но сдержалась. Помолчав, она спросила:
— Я могу идти?
— Да.
— Хорошо, — сказала она, поднимаясь, — я поняла.
То, что она не принялась спорить, было уже хорошим признаком.
Дня три спустя после этого разговора, делая обход, Ветров заметил, что в его палатах стало как будто светлее и чище. Тумбочки покрылись салфетками, а на одной из них, которая стояла у кровати больного с вытяжением, появилась вазочка с искусственными цветами.
После обхода Ветров похвалил Катю, однако сделал это довольно сдержанно.
— Но вот занавесок на окнах я не вижу, — сказал он в заключение. — О них вы забыли.
— Из чего же их шить? — спросила Катя.
— А из чего они сшиты у вас в общежитии?
— Из марли.
— Вот и здесь сделайте из нее же. Только нужен этакий, знаете, вкус, чтобы они походили не на простой обрывок марли, а на настоящую занавеску, хотя бы и скромную.
— А где я возьму марлю? Нам ее отпускают в обрез. Не могу же я использовать ту, которая дается на операции.
— Конечно. Я схожу к Бережному, и он пойдет нам навстречу.
Бережной, выслушав Ветрова, помялся, но все же не отказал. Подписывая требование, он улыбнулся:
— Слышал я, что вы в палатах переворот устраиваете. Дело это хорошее, давно бы надо, но работы было столько, что до этого просто руки не доходили. Михайлов один до вас прямо запарился. Ему ведь все самому делать приходилось. Кстати, как вы с ним сработались?
— Как будто бы ничего…
— Ну, ну… Он вообще–то молодец. Хороший врач. Знаете, смертность после операций у него так низка, что его в управлении хвалят.
— Видите ли, товарищ Бережной, — сдержанно сказал Ветров, — статистика — вещь хорошая, но ею нельзя прикрываться.
Бережной внимательно взглянул на собеседника:
— Вы хотите сказать…
— Я ничего не хочу сказать, — перебил его Ветров. — Это пришлось к слову. Разрешите идти?
— Да.
Он поблагодарил и вышел из кабинета.
Вечером Ветров зашел в госпиталь. Было поздно, и в коридоре ярко светило электричество. В палатах горели синие лампочки. Их слабый свет наполнял помещение сказочным полумраком. Ветров останавливался у каждой койки, прислушивался к ровному дыханию спящих и затем осторожно двигался дальше. Когда он подошел к приподнятой кровати, больной Золотов, лежащий здесь, открыл глаза.
— Спите, Золотов, — прошептал Ветров. — Спите, я не буду вас беспокоить.
— Нет, доктор, не хочется, — слабым голосом ответил больной и спросил: — А вы дежурите?
— Нет, зашел на минутку вас навестить.
— Специально меня?
— Да, — слукавил Ветров, — специально вас. Как вы себя чувствуете?
— Спасибо, кажется ничего. Только не спится.
— Почему?
— Не знаю… Вот, видно, положение мое висячее надоело. Все лежат, как люди, а я чуть не вверх ногами. И мысли разные в голову лезут.
— Какие же мысли?
— Да разные, — уклончиво ответил больной.
— А вы скажите мне, и мы вдвоем с вами подумаем.
Ветров взял стул, осторожно, чтобы не шуметь, поставил его у кровати и сел.
— Ну, говорите… — тепло сказал он. — Не бойтесь, что мы с вами незнакомы. Мы еще будем друзьями, — он положил руку на грудь больного.
— А почему вы вдруг ко мне пришли? — спросил тот неожиданно. — Может быть, с ногой у меня хуже стало?
— Нет, с ногой хорошо.
— И резать не нужно?
— Вот чудак! — улыбнулся Ветров. — Зачем же ее резать? Или она у вас лишняя? Конечно, если она вам не нужна, — пошутил он, — скажите мне, и я, уж так и быть, по дружбе, могу отхватить ее там, где вы укажете. Но, на мой взгляд, ноги вам еще пригодятся, хотя бы для того, чтобы после войны потанцевать с девушкой, которая вам письма каждый день присылает.
— А откуда вы знаете? — смущенно улыбнулся больной.
— Я все знаю. Знаю, что вы читаете эти письма, грустите и думаете: «Вот останусь я без ноги, она меня разлюбит, и буду я самый несчастный человек на свете…» Потом вы достаете папиросы и курите пачку за пачкой, портя себе легкие и отдаляя свою с ней встречу.
— Почему?
— Потому что хворать будете дольше, если не бросите курить.
— Я тогда брошу, доктор.
— Опять крайность! Зачем же сразу бросать? От этого ваше настроение еще сильнее испортится. Курите, но только немного.
— Три папиросы можно?
— Можно даже десять сначала, а потом меньше. Не беритесь сразу — надорветесь. Надо все делать терпеливо… И хворать надо терпеливо, и нервничать не надо. Потерпите, и летом мы еще с вами в догонялки играть будем.
— Неужели я даже бегать смогу? — с надеждой спросил больной.
— Еще как! Но при одном непременном условии.
— Каком же? — больной с тревогой ждал ответа.
Ветров вздохнул и сказал:
— О, условие это тяжелое. Боюсь, что вы его не выполните, и тогда — все пропало.
— Ну, какое же, доктор? Ну, говорите!
— Вы должны хорошо кушать. Съедать все, что вам приносят, и еще просить добавки! Поняли?
— Понял, — облегченно вздохнул Золотов. — А я уж испугался… Думал, что–нибудь трудное… Это я могу!
— А чего же раньше не ели?
— Не хотелось…
— А теперь?
— Теперь хочется, доктор. Вот сразу сейчас и захотелось.
— Вот это хорошо, Золотов. За это хвалю… Ну, а о мыслях ваших вы мне расскажете сегодня или нет?
Золотов смущенно заулыбался и ответил с расстановкой:
— Чего же о них говорить… Вы, оказывается, сами все знаете… Вы какой–то всевидящий… Удивительно!
Ветров засмеялся и встал.
— Ладно, ладно, давайте–ка спать, а то мы всех разбудим. Спокойной ночи! — он пошел к выходу, но на дороге его остановил громкий шопот Золотова.
— Доктор, там в тумбочке папиросы… Возьмите, пожалуйста.
— Это зачем же?
— Возьмите и курите.
— Нет, нет, спасибо, — запротестовал Ветров. — У меня есть свои. Мне не надо. Сами курите, пока разрешаю…
— Ну, доктор, — умоляюще зашептал Золотов, — возьмите, пожалуйста. Я вас очень прошу… Не обижайте меня.
В тоне его было столько просьбы, что Ветров, пожав плечами, нагнулся, открыл тумбочку и, вытащив нетронутую пачку, сунул ее в карман халата. Придя домой, он достал неожиданно полученные папиросы, повертел в руках и положил в чемодан, чему–то улыбнувшись.
На другой день ему сообщили, что больной Золотов преобразился. Он улыбался, разговаривал с окружающими, с сестрой, и в обед съел все, что принесли, потребовав даже добавки. За время пребывания в госпитале это случилось с ним в первый раз.
Услышав об этой перемене, Ветров невольно подумал, как мало иногда нужно, чтобы преобразить страдающего человека. Стоит только уделить ему лишних пять минут, чтобы вдохнуть надежду несколькими теплыми словами, стоит только показать, что врач интересуется им и абсолютно уверен в его выздоровлении, и больной приобретет интерес к жизни, будет стараться поскорее приблизить это выздоровление и поэтому выполнять все указания и назначения.
Срок, который дал Ветров Кате для наведения порядка, истек. Благодаря ее стараниям палаты преобразились, и Ветров счел возможным похвалить ее. Однако он предупредил, что наведенный порядок должен сохраняться и в будущем, и что за это она должна будет отвечать в первую очередь.
Катя растаяла от похвалы и кокетливо сощурила глазки. Она, повидимому, очень любила, когда ее хвалили, Это надолго сообщало ей хорошее настроение, и она весело летала по отделению с лекарствами, стуча своими сапожками о паркет и вполголоса мурлыкая песенку. В это время ее невыразительные водянистые глаза приобретали какой–то новый оттенок. Но хорошее настроение Кати, как оказалось, могло отражаться на ее работе далеко не в хорошую сторону, в чем вскоре Ветрову пришлось убедиться.