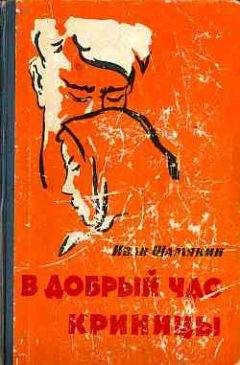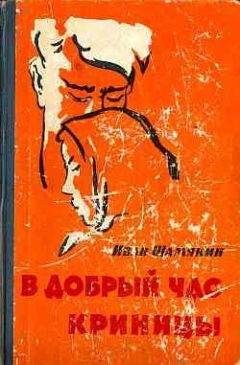— Дорога…
— Что дорога?
— Ждем санной дороги…
— А если её не будет ещё месяц-два?..
— Ну, что вы!.. Вот-вот установится…
— Дорога, дорога… Смогли же вы за один день перевезти лес, для Лесковца… Почему же это нельзя сделать для других?
— Сделаем.
— А вы знаете, как у нас называют людей, которые не выполняют своих обещаний?
— Слышал.
В хлевах на ферме они застали все те же неполадки, о которых шла речь ещё десять дней назад на заседании сельсовета. Не, была отремонтирована даже крыша в телятнике, не заменены гнилые стропила, которые под тяжестью снега могли обвалиться. Ладынин помнил, что именно об этой крыше с возмущением говорил председатель сельсовета. Теперь, увидев её, Ладынин возмутился и сам:
— А это что, тоже дорога помешала?
— Эта крыша ещё десять лет простоит и черт её не возьмет! — Шаройка в первый раз ответил со злостью.
Ладынин удивленно взглянул на него. Но его предупредила Клавдя. Она, как из-под земли, неожиданно выросла перед ними.
— Я сегодня обвалю её, чтоб глаза не мозолила. В телятник страшно войти. Того и гляди придавит. Дохозяйнича-лись. — Она с такой необыкновенной иронией пропела последнее слово, что Шаройка даже побледнел.
Ладынин улыбнулся: «Молодчина! Вот она какая!» И, вспомнив её упрек, сказал Шаройке:
— Послушайте, товарищ Шаройка, давайте созовем сегодня общее собрание. Поговорим с людьми о выборах, да и о хозяйственных делах словечком перекинемся.
Председатель колхоза согласился с молчаливым, но явным неудовольствием.
Собрание закончилось далеко за полночь.
Но, несмотря на поздний час, колхозники не спешили расходиться; окружили стол и долго беседовали, засыпали Ладынина вопросами. Чувствовался жадный интерес ко всему: к международной политике, к выборам, к постановлению о ликвидации нарушений устава, к перспективному плану колхоза «Воля», о котором рассказывал Ладынин.
Игнат Андреевич, довольный, отвечал сразу всем. Он тоже не спешил уходить, хотя болела голова, гудела от усталости, от табачного дыма.
В стороне стоял Шаройка. Обжигая губы и пальцы об окурок, нервно и жадно затягивался. На висках, на шее синими шнурами вздувались вены. Встопорщились седые космы волос. Бригадир Бирила о чем-то спрашивал его, — он почти не слышал и не понимал.
В первый раз ему так досталось. Не представлял он, что его могут так разнести. Он знал, что о нем говорят за глаза, но чтоб осмелились все это высказать ему прямо в лицо… И кто? Все молчальники заговорили, те, кто никогда раньше и рта не раскрывали. «Сила», — с завистью думал он, глядя на Ладынина.
Сначала все шло как полагается. На сход собирались добрых три часа; назначили на семь, а начали в половине одиннадцатого.
Шаройка сидел рядом с Ладыниным и, вновь обретя свою независимость, степенность, без конца, хотя и сдержанно, говорил, умело выставляя свой хозяйственный опыт. Жаловался на людей:
— Вот, пожалуйста, товарищ Ладынин. И так каждый раз. Сколько крови испортишь, покуда сход соберешь. Пассивность, — и в душе, радовался, заметив, что Ладынин нерв ничает, злится.
И началось собрание, как всегда. Долго и туманно говорил о рабочей дисциплине сам Шаройка. Затем выступали штатные ораторы: бригадир, счетовод, заведующий фермой. К ним присоединился ещё один оратор — Максим Лесковец, который говорил добрых двадцать минут, а конкретного ничего не сказал. А больше, как ни предлагал председатель собрания, никто ни слова. Тогда, как-то совсем незаметно, руководить собранием стал сам Ладынин.
— Что ж, товарищи, так никому и нечего больше сказать? А вот интересно, товарищ Шаройка, зоотехник вернул вам корову?
Люди зашевелились, шум в задних рядах стих.
— Хоть это и не имеет отношения к дисциплине, но я скажу, — поднялся Шаройка.
Ладынин прервал его:
— Нет, это имеет непосредственное отношение! Шаройка сказал, что зоотехник согласился заплатить за корову деньгами.
— Знаем мы это «заплатить»! Пускай вернет корову! Нам ферма нужна! — откликнулись сразу несколько женщин. И под шумок, из задних рядов:
— А председатель колхозную корову думает вернуть? Шаройка не услышал этого — начал толковать о чем-то совсем другом. Ладынин снова прервал его и повторил вопрос:
— Народ спрашивает, товарищ Шаройка, — а когда вы вернете корову колхозу?
Шаройка уставился на него тяжелым взглядом.
— Народ?
— Да, народ.
— Какую корову?
— Это вам лучше знать!
— Я не брал никакой коровы.
— А Лысая? — опять крикнули откуда-то из-за печки.
— Мне её дали.
— Кто?
— Райзо.
— Из колхозного стада, которое мы пригнали с востока? У меня и сейчас ещё ноги не зажили, — со злостью сказала Клавдя Хацкевич, сидевшая в первом ряду.
Ладынин с одобрением кивнул ей головой.
С Клавди и началось. Она выступила первая, резала правду-матку так, что колхозники не раз прерывали её аплодисментами и криками.
Все припомнили, все взвесили и подсчитали. Не забыли и последнего случая — поросенка и гусей, которых Шаройка взял для угощения Лесковца. Максим сгорал от стыда. Попробовал выступить — встретили смехом.
— Гусь!
Он разозлился, хотел было перекричать шум и смех. Но Ладынин сурово блеснул из-под косматых бровей глазами: — Садись и молчи!
Кое-кто из тех, у кого были свои счеты с Шаройкой, наговорил лишнего, неосновательного. В этих случаях Шаройка краснел так, что казалось, из его плотных щек вот-вот брызнет кровь, и как-то протяжно-равнодушно поддакивал:
— Та-ак, та-ак…
Выступила Маша. Она привела множество новых фактов нарушения устава и делала это спокойно, трезво, убедительно. Потребовала, чтобы ещё раз были проверены размеры приусадебных участков. Её слушали без единого выкрика, без смеха, без вопросов с мест. Она успокоила людей и даже отвела от Шаройки кое-какие несправедливые обвинения.
Ладынин высоко оценил её умение говорить так просто и доходчиво (не все этим владеют), ему очень понравилось и внимание, с каким бородачи слушали её, девушку.
Сам он говорил мало, но зато предложил весьма подробное постановление, которое написал, слушая выступающих. Не по нутру было это конкретное постановление Шаройке: крепко било оно по его собственному хозяйству; жестокий счет предъявляло ему собрание.
Он не оправдывался. Только попросил, чтоб его освободили от обязанностей председателя.
— Не оправдал… отстаю… постарел… Что ж, — растерянно разводил он руками.
Ладынин побаивался, что собрание тут же удовлетворит его просьбу. Он знал о разговоре Макушенки с Лесковцом, но о согласии Максима ему ничего не было известно, так как сам он с ним поговорить не успел. Выборы могли пройти ста хийно. В таких случаях нередко бывают ошибки. Но ему не пришлось сдерживать собрание.
— Не торопись! — сказал Шаройке старик откуда-то из середины комнаты. — Скоро будут перевыборы… Тогда и поговорим об этом… А сегодня поздно. Пора спать…
— А пока верни в колхоз все, что в постановлении записано, — весело выкрикнула Клавдя.
— Вы ночевать будете или коня запрячь? — предупредительно спросил Шаройка у Ладынина, когда люди наконец начали расходиться и в комнате осталось только несколько человек.
— Спасибо. Я пешком пойду.
— Поздновато. Темно.
— Вы переночевали б, Игнат Андреевич, — пригласила Маша.
— Нет, нет… Голова разболелась, прямо трещит, — он сжал пальцами виски, поморщился. — Не пройдусь — не усну.
— Мы проводим вас до сосняка, — предложил Максим. — Пойдешь, Маша?
«Остаться с ним один на один? И так неожиданно, не собравшись с мыслями. Но что подумает Игнат Андреевич, если я откажусь?»
По деревне шли молча.
Студеный северный ветер больно бил в лицо редкими дробинками града. Ноги скользили на нем, как на рассыпанном зерне, и трещал он под сапогами тоже, как зерно. Один за другим гасли в окнах огоньки: люди спешили лечь, недолго оставалось до рассвета. В одном из окон уже весело плясали, расписывая стекла пунцовыми узорами, языки пламени — топилась печь.
— Ранняя хозяйка, — заметил Максим и снова предложил, хотя они были уже в конце деревни — Переночевали бы…
Ладынин с шумом вдохнул воздух.
— Хорошо. Сразу проветрило, — и тут же, как только миновали последнюю хату, спросил — Максим Антонович, ты хоть ошибки-то свои понимаешь?
— Ошибки? — Максим удивился, что неприятное это слово Ладынин поставил во множественном числе. — Нет, не понимаю я своей ошибки, — он подчеркнул единственное число. — Вообще это какая-то ерунда. Откуда я мог знать, чей это поросенок, или гуси, или ещё, там черт знает что… Меня пригласили, как обычно приглашают… Сосед, близкий человек, председатель колхоза… Существуют же нормы приличия, товарищ Ладынин… Не мог же я прийти и спросить: откуда у вас этот поросенок, не с колхозной ли фермы? Дико, — он засмеялся искусственным, принужденным смехом.