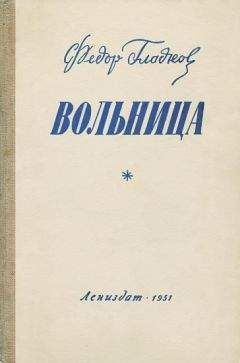Я впервые был в такой огромной толпе. Она ворошилась и кипела, как рожь на рассевах, душила, затягивала в самую гущу и отрывала меня от матери. Женщины с озабоченными лицами толкались плечами, а мужчины с праздным любопытством искали что-то по сторонам, пятились или оттирались куда-то вбок и исчезали, втянутые в людоворот. Все как будто топтались на месте, но я с ужасом чувствовал себя затерянным, проглоченным этой удушливой кипящей массой. У меня кружилась голова, и казалось, что мы никогда не выберемся из этого омута. Высоко, за переплётами металлических перекрытий, синела стеклянная крыша, и стаи голубей, хлопая крыльями, летали под стёклами, садились на клетки перекрытий и ворковали. Роями проносились воробьи, шарахаясь во все стороны.
Обратно мы шли другой дорогой: переходили мостик через Кутум выше Исад. Там было тихо и пустынно. Было ещё рано, и люди на нарядных улицах, с кудрявыми деревьями вдоль тротуаров, встречались редко. Богатые особняки, белые, опрятные, с тюлевыми занавесками, казались необитаемыми. Только дворники в холщовых фартуках, с бляхой на груди, размашисто подметали мётлами булыжную мостовую перед своими домами. Всюду дымилась рыжая пыль. Звон колоколов волнами плыл по городу. Для меня всё было ново, интересно и таинственно-чуждо. И здесь пели крендельщики с корзинами на головах, проезжал с мокрой бочкой, грохоча колёсами по мостовой, старик водовоз и выл жалобно: «Воды-ы, во-ды-ы!..» Один раз мы встретили здесь нашу старуху Степаниду. Она тяжело передвигала свои разбухшие ноги и глухо басила: «Рыбы, рыбы, балыку!..» На нас она даже не взглянула.
Итти по пустым улицам, где наши шаги отзывались эхом, было приятно. За каменными и дощатыми заборами густо зеленели сады и оттуда пахло цветами. Навстречу нам по одному, по два быстро шагали рабочие, пропахшие рыбой. Мать обычно наряжалась во всё праздничное. Правда, и юбка, и кофта, и полушалок у ней были деревенские, но она умела одеться как-то приглядно, красиво, со вкусом. Лицо у неё становилось не обычным, не будничным, а светилось затаённой улыбкой. Она будто любовалась собою и знала, что миловидна, что походка у неё лёгкая и мягкая.
Я любил ходить по этим тихим утренним улицам, которые полого спускались в низину и поднимались на песчаные бугры, любил встречать людей, торопливо идущих на работу с узелками в руках, любил обгонять весёлого крендельщика с корзиной на голове. Занятно было перекинуться озорными словечками с подростками, гурьбой бегущими на работу. Они угрожающе таращили на меня глаза и кричали посмеиваясь:
— Эй ты, Ванька-малой, деревенщина!.. Мамкин хвост!.. Рви ему, ребята, кудри патлатые!
А я враждебно открикивался;
— Галахи! Шарлоты!
Но никак я не мог привыкнуть к турнюрным барыням, которые, семеня, тащили в руке длинные подолы своих платьев. Крошечные шляпки на высоко взбитых волосах так были нелепы, что я всегда фыркал от смеха. Я видел, что матери приятно было итти свободно под зелёными шапками подстриженных тополей, мимо богатых и нарядных особняков с большими зеркальными окнами и кисейными занавесками. И когда мы шли по пыльной и угрюмой улице мимо деревянных домишек, на нас лаяли собаки из подворотен.
Однажды, когда мы проезжали через базар, на подножку пролётки вскочил высокий парень в чёрной шляпе, надвинутой на ухо, с квадратным, костистым лицом, пыльно-бледным, с острыми скулами и весёлыми глазами. Мы с матерью испуганно шарахнулись от него, а он засмеялся. Отец тоже испугался и угрожающе поднял кнут.
— Ну, чего струсили? Неужели я такой страшный? — спросил парень посмеиваясь.
Отец сконфуженно засмеялся.
— Вот шайтан, — пошутил он смущённо. — Ты, как вор из-за угла, словно оглушить норовишь. — И он пояснил матери, указывая на парня: — Это Триша. Трифон Павлыч, сын хозяйский.
— Блудный сын родителя-грабителя, — смеялся парень, — лишённый наследства и проклятый в сем веке и в будущем. Давайте познакомимся. Я свободный мальчик и люблю якшаться с людями, с такими особенно, с которыми сердцем столкнуться можно. Человек я весёлый, живу холостяком, с хлеба на квас, а грешу для своего удовольствия. Ну-ка, Вася, подъезжай к моему шалашу. Я ждал тебя: захвачу вещички, и ты подвезёшь меня до Кутума.
Отец поёжился и, подозрительно озираясь, с натугой пошутил:
— С тобой ещё греха не оберёшься…
— Это почему же, Вася? Разве я на преступника похож?
— Узнает Павел Иваныч — беда будет.
— А тебе какое дело до твоего седока? Мало ли кого ты возишь! Может, каждый день доставляешь грабителей и убийц на мокрые дела… А я, будто, до сих пор считался сыном твоего хозяина… и, как-никак, тоже власть над тобой имею, а? Вот то-то же, знай наших! — И он опять засмеялся. — Но папашу своего я с удовольствием отвёз бы на Балду и свалил в омут.
Отец сердито огрызнулся:
— Ты хоть при парнишке-то зря не трепал бы языком…
— Ничего, пускай учится ценить людей по достоинству. Да ведь он и без меня, должно быть, знает, какой негодяй твой хозяин. По глазам его вижу.
Мать съёжилась и отвернулась от него. А мне было интересно слушать: он мне нравился своим злобным отношением к нашему хозяину.
— Он, старый чорт, не чует, что я богаче его в миллион раз, — с весёлой ненавистью говорил Триша. — Я живу своим трудом: я — наборщик, в типографии работаю. У меня друзей-товарищей — не пересчитать. А он деньги и дом грабежом нажил. Одно хорошее дело сделал — меня выгнал из дому. Да я и сам от стыда давно от дому отбился. Ведь наша улица всю подноготную про соседей знает. Ну, и просветили меня.
Он опять засмеялся и с неожиданным добродушием пошутил с матерью:
— Ты чего скорчилась, Настя? Не бойся: я парень свойский. Приглядишься ко мне — полюбишь. Я иногда к Манюшке, к святой кошке, захожу. Она любит с девчатами и молодыми бабёнками похороводиться. Вот я при первом же случае и нагряну к вам в гости. Преподобная грешница… Её вся Астрахань знает: все дома облазила. И то хорошо, что её за копейку купить можно — с охотой навредит и услужит.
Мы остановились перед маленьким деревянным домиком с воротами под тесовым козырьком. Триша спрыгнул на ходу с подножки и скрылся за калиткой. Мне бросилась в глаза его длинноногая, сутулая фигура в очень поношенном пиджачишке, кургузом для его роста, в узеньких брючках и стоптанных щиблетах. Но что-то в этом парне было привлекательное, жгучее и приятное, и я уже крепко был уверен, что он правдивый, прямой, открытый и хочет дружить с нами.
Отец обернулся к нам и предупредил:
— Ежели кто из вас сболтнёт, что я к нему заезжал, языки вырву… Связал меня чорт с ним. Прямо за горло схватил. Не знаю, как отбояриться. Буду по другим улицам ездить.
Мать робко, со страхом, пролепетала:
— Он какой-то злой, Фомич. Чего-то у него сердце горит.
Отец со свистом плюнул на землю, щёлкнул кнутом по колесу и прикрикнул на мать, как кричал, бывало, в деревне:
— Молчи, дура! Без тебя не знают. — И неожиданно решил: — На ватагу поедешь. Здесь тебе болтаться нечего. А чалки да мочалки — это от безделья рукоделье.
Отец сидел на козлах толстый, в кучерском армяке, а голова маленькая и смешная в жёсткой шапочке. Он смотрел в репицу лошади и говорил неприветливо и повелительно, как в деревне. Я наблюдал за матерью и не мог разгадать её: в лице застыло покорное отчаяние, но в глазах вспыхивала радостная надежда.
Триша выбежал из калитки с толстой церковной книгой и иконой в фольговой ризе, плохо завёрнутыми в газету. Он бесцеремонно столкнул меня с места и сел рядом с матерью, положив книгу и икону на свои острые колени.
— А ты, молодой человек, примостись у меня в ногах: ты, как таракан, можешь устроиться в любой щёлке. Привыкай передвигаться в любом положении и в любых условиях — пригодится. Трогай, Вася!
Отец с удивлением поглядел на необычные вещи Триши и на него самого и задёргал вожжами. Я присел на корточки в ногах у матери. Когда лошадь привычной ленивой рысью затрусила по улице, отец обернулся к Трише и с уважением пощупал глазами толстую книгу в кожаном переплёте с деревянными крышками и нарядную икону.
— Это чего у тебя, Триша? Аль писание читаешь?
— Хорошая книга, Вася, ценная, — сердито ответил Триша. — Пролог. Ей двести лет. Рукописная, лицевая. И икона древняя, только риза новая. Это родовое. Мамаша меня благословила, для души спасения. Куда везу-то? Не твоё дело. Ты не сыщик, а извозчик. Впрочем, так и быть, откроюсь: сейчас эти старинные книги и иконы полиция отбирает, а моленные закрывают. Вот для сохранности книги и прячу.
Отец, не оборачиваясь, подтвердил:
— У нас тоже в деревне моленную закрыли. Только книги-то да иконы из запечатанной избы вытащили. Начальство чуть умом не рехнулось. Ничего нигде не тронуто, а когда сняли печати, отперли — остались одни голые стены.
Он засмеялся, с удовольствием вспоминая эту проделку мужиков.