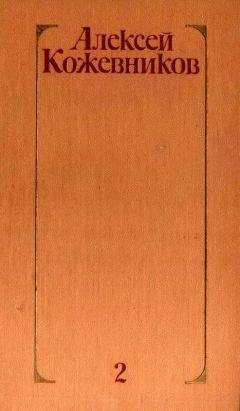Но вот однажды эти добрые ребята вдруг защелкали кнутами и погнали нас в жердяную клетку. Мы еще не знали, что это раскол, но, видя, как не хотят идти в него взрослые, тоже начали упираться. Я за упрямство получил сильный ожог кнутом. В расколе нам стали угрожать опять же кнутами и криками. Мы с матерью нашли узенький открытый выход и кинулись в него; она проскочила, а меня задержали. Мне и в голову не пришло, что выход был ловушкой.
Тут подбежали ко мне знакомые табунщики и еще много чужих людей, один накинул на шею мне ремень и стал душить, двое схватили за хвост, четвертый за уши, а пятый кольнул чем-то таким, что сразу погасло солнце, потемнело небо и зашаталась земля. „Погиб, пропал“, — подумал я. Сколько пробыл без памяти — не знаю. Когда очнулся, меня выпустили и загнали другого. Люди называют это таврением.
Месяца три нас опять не трогали; один табунщик пел, другой охотился. А потом вдруг снова с кнутами и криками — в раскол, в станок и навсегда разлучили с матерью. Еще через два года загнали в третий раз и мучили так, что я не могу позабыть до сих пор: обрубили копыта, надели узду — она чуть не оторвала мне голову; когда повели на водопой, я вырвался, и меня до полусмерти гоняли по холмам, потом заарканили, надели седло.
Теперь я старый, отставной конь, позади у меня тринадцать лет укрючной службы. Кто знает эту службу, поверит, что я многое видел и понял, каждое мое слово выстрадано.
Я обращаюсь к коням и людям.
Те беспечные ребята, которые пасли наш косяк, — плохие табунщики. Они заботились только о нашей целости, здоровье, кормежке и питье. Этого мало. Это приводит к печальным недоразумениям между конем и человеком. Жеребята любопытны, как всякие малыши. Нас занимало все, в том числе и непонятный раскол. Мы чесались о него, пробовали на зуб, обнюхивали. Надо было пустить нас туда — сперва прогнать ходом, затем подержать недолго, тронуть за уши, за хвост, надеть играючи уздечку. Поначалу мы испугались бы, а потом привыкли, что это игра; со временем под игру пошло бы и дело. Лучше несколько раз испугаться помаленьку, чем однажды на всю жизнь.
Нельзя всю науку, какая требуется от коня, давать сразу, тогда наука обращается в му;´ку. Надо понемножку. И если видишь, что коню неприятно, тут же загладь это лаской. Больше ласки, и тогда отпадет нужда запирать в станок, арканить, треножить, а такие неизбежные действия, как таврение, отъем, станут легче и для коня и для человека.
Раньше начинайте приручение. Пусть будет поменьше детского блаженства, зато меньше и детского горя. А нас прямо под тавро, затем на отъем, дальше на „обтяжку“, в узду, под седло. И после этого никакой ласки.
Видя только насилие да боль, мы решили, что человек такое существо, которое время от времени сходит с ума и делается жестоким мучителем. У нас появился страх, нелюдимость, злобность. Часто этот скверный нрав вкореняется так, что конь на всю жизнь остается только побежденным, но не прирученным. Это ненадежный работник и воин.
Человеку нужен послушный верный конь, коню — ласковый добрый хозяин. Почему же до сих пор я слышу свист кнутов и арканов?»
Домна Борисовна умолкла и обвела всех собравшихся неторопливым взглядом. Табунщики дымили — у многих раздумье обязательно сопровождается курением. Дым висел пологом.
— Кто писал? — спросил Урсанах.
— Чалый.
— А-а… так и видно, — оживились табунщики: Чалый был любимым корреспондентом.
Многие подозревали, что под этим псевдонимом скрывается Домна Борисовна, но узнавать не старались: в слове от коня был особый интерес.
Домна Борисовна покашляла, прочищая горло от табачного дыма, и спросила:
— Что же ответим Чалому?
Начался горячий разговор. Табунщики соглашались, что Чалый прав. Кто-то высказал новый лозунг: «Всеобщее обязательное приручение табунного молодняка».
Таврение повлияло на сосунков в точности так, как писал Чалый: они сделались подозрительней, нелюдимей, даже всеобщий любимец и баловень — Храбрый, сынок Хариты, порвал с табунщиками дружбу.
Раньше, бывало, мчится на первый же зов, прямо с ладони берет сахар, разрешит погладить по спине, почесать за ушами, не допускал только к ногам, а теперь, как ни зови, ни мани, — храпнет, фыркнет и отбежит в сторону.
Однажды, не дозвавшись, Олько положил сахар на видном месте и стал наблюдать за Храбрым. Тот вскоре заметил приманку и пошел к ней, но шагах в трех остановился.
— Бери, бери! — сказал Олько. — Не вечно же ссориться нам. Больше таврить не станем. Можно мириться.
Стояли долго. Храбрый и не уходил и не брал сахар. Но вот табунщика позвали, он обернулся, и в этот момент сахар исчез.
— Э-ге… Так не годится, — проворчал табунщик на самого себя. — Так из Храброго получится вор.
После водопоя отяжелевшие матки обычно становились широким кругом отдохнуть, а жеребята играли в этом кругу. Место, по конским обычаям, было всегда одно — ровный, чистый, будто сознательно прибранный луг. И вдруг посреди глади появился большой серый камень. Кобылицы, видавшие всякие «чудеса», отнеслись к нему более с недовольством, чем с интересом, похрапели и выстроились тесней, оставив камень за кругом.
Но жеребята были заинтересованы и озадачены необыкновенно; позабыв об игре, не обращая внимания на зов маток, они всей оравой двинулись к камню. По мере приближения дружная воинственная шайка начала растягиваться, редеть — трусы остановились, колеблющиеся пошли обходом, оглядывая камень со всех сторон.
Первым смельчаком оказался Храбрый, но и тот волновался ужасно, шагах в двух от камня он остановился и, тревожно принюхиваясь, долго тянул шею, чтобы с места достать его губами. Шея была коротка. Тогда он пошел снова, но такими маленькими шажками, которых, пожалуй, устыдился бы и записной трус — воробей. Наконец дотянулся и тут же отпрянул: камень с виду, как все, неподвижный, угловатый, на ощупь был мягкий, и от него резко пахло человеком.
Новые колебания, обнюхивание издали, и Храбрый снова тронул камень губами. Верно — мягкий, пахнет человеком, но неподвижен. Постепенно смелея, конек попробовал камень на зуб, начал тыкать головой — и вдруг нашел кусочек сахару. Сжевав его, он принялся искать еще. Тут сверкнул на него глаз, но так быстро, что конек не успел даже увериться, в самом ли деле глаз. Постояв в нерешительности, он возобновил поиски и открыл у камня человеческую руку. Опять испуг, недоумение, долгая борьба между страхом и любопытством. Камень с человеческой рукой был неподвижен, как и полагается камню, и любопытство взяло верх. Разворошив мягкую оболочку камня, которая оказалась брезентовым плащом, Храбрый обнаружил под ней Олько Чудогашева и, отступив шага на три, стал наблюдать за табунщиком.
Олько начал отходить, стараясь делать это как можно неприметней. Весь во власти необыкновенного удивления, конек последовал за ним и провожал до тех пор, пока табунщик не вскочил в седло.
Урок повторялся ежедневно. Приходил на него уже не один Храбрый. Олько все быстрее и быстрее совершал свое «превращение» из камня в человека, а жеребята все меньше и меньше пугались этого.
…В освободившемся раскольном базе открыли все двери, и когда табуны явились на водопой, их сначала направили в раскол. Кони упрямились, а сквозь станок для таврения, особо памятный, пролетали пулей. В другой раз они прошли уже спокойней, через неделю стали заворачивать сами, без понукания. Завершилось это предприятие удивительно: однажды, напившись, кони снова двинулись в раскол, хотя к этому их не приучали, прошли его в чинном порядке и затем уж двинулись на пастьбу: они «решили», что путь и к воде и от воды один.
Часть четвертая
Зеленый щит
За все лето выпал одни маленький дождь, который едва прибил пыль, к вечеру того же дня она вновь разгуливала вихрями, неотступно, как дым за паровозом, летела за идущими машинами, стерла грань между небом и землей.
На богарных полях собрали только семена, на покосах — по центнеру сена, жесткого, как проволока. Без орошения конный завод не выполнил бы даже и тот убогий план, который был составлен для него Застрехой. Конский молодняк, коровы, телята, овцы опять побрела бы за Енисей.
Орошенные поля дали по двадцать — тридцать центнеров пшеницы с гектара, в зависимости от того, каков был полив. Иртэн подсчитала, что каждые сто кубометров воды прибавляют центнер пшеницы.
На орошенных лугах сняли два укоса, сена заготовили с избытком. Кроме того, благодаря поливу лугов косить пришлось меньшую площадь, и потому высвободилось много рабочих рук, машин, конной тяги. Эти силы сперва были поставлены на достройку Биженской плотины, а затем — на посадку лесов.
Леса сажали вокруг полей, вдоль оросительных каналов, в затишливых степных уголках для укрытия табунов в бураны.