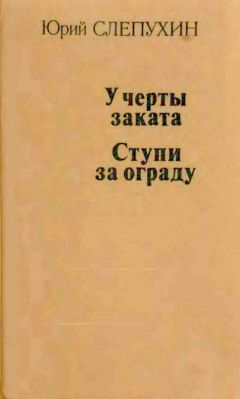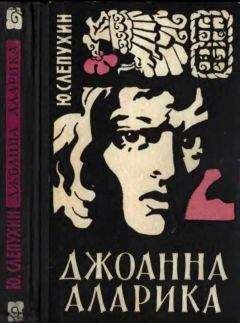— Разумеется, разумеется, — кивнул Флетчер. — Но, видите ли, я не сумел, наверное, осветить вам некоторые стороны дела. Мистер Альтвангер сумеет это сделать лучше, и мы втроем подумаем, как выходить из неприятного положения…
Альтвангер с готовностью перехватил инициативу:
— Да, позвольте мне! Послушайте, Фрэнки, — надеюсь вас не обижает фамильярность, я ведь просто старше вас на добрых три десятка, — послушайте, что я вам скажу. Прежде всего: приношу вам свое искреннее сожаление о случившемся. Мистер Флетчер уже объяснил вам, как все это получилось, но — оставляя в стороне детали — главная вина лежит, конечно, на мне. Когда было подписано соглашение с немцами и нужно было давать материал в печать, вас здесь не оказалось: можно было бы, конечно, и даже должно было предварительно показать статью вам, но — проклятая оперативность! — я подумал, что, пока сумею разыскать вас и договориться о встрече, время будет упущено…
Хартфилд уже несколько раз порывался что-то сказать, но без умолку тараторивший Альтвангер не давал ему вставить слова. Наконец, воспользовавшись паузой, он решительно перебил журналиста:
— Прошу прощения, сэр, это несущественно, мне кажется. Я не разбираюсь в специфике газетной работы и не хочу ее обсуждать. Мне казалось до сих пор, что не полагается писать о человеке так, как вы написали обо мне и моем отце, не получив предварительно согласия от него самого… или хотя бы от родственников. Но не это главное. Главное тут то, что я не собираюсь ехать в Германию и не поеду. Между тем ваш журнал расписал меня на все Соединенные Штаты чуть ли не как… поборника какого-то нового крестового похода, что ли, я уж даже не знаю, как это назвать. Боюсь, сэр, что вам придется напечатать соответствующее опровержение.
— Минутку, Фрэнки. Минутку! Почему, собственно, вы не хотите ехать в Германию?
Хартфилд несколько секунд смотрел на него, прежде чем ответить.
— Это, пожалуй, трудно объяснить в нескольких словах. Вы знаете, что там погиб мой отец. Но это, конечно, не основная причина, а как бы… повод, что ли…
— Господи, я вас прекрасно понимаю! — добродушно воскликнул Альтвангер. — Это совершенно естественная реакция, но давайте разберемся в ней правильно. Ваши рассуждения следуют приблизительно по такой линии: мой отец погиб в бою против немцев, а меня посылают этим немцам помогать — нет, я из уважения к его памяти не могу этого сделать. Приблизительно так, да?
Фрэнк пожал плечами, то ли соглашаясь, то ли оспаривая гипотезу.
— Фрэнки, — продолжал Альтвангер, — мне пятьдесят лет, и вы не должны обидеться, если я назову такой ход рассуждений несколько наивным. Да, формально вы, может быть, и правы. Да, вашего отца убил немец, и вы не можете об этом не думать. Но разве в этом случайном обстоятельстве — смысл жертвы капитана Хартфилда? Разве против Германии как таковой воевал ваш отец? Нет, нет и нет! Он воевал против страны, посягнувшей на свободу Америки! Вот что вы должны понять прежде всего. Он воевал против системы, которая в силу случайных исторических обстоятельств возникла и укрепилась в центре Европы, на территории одной из самых цивилизованных ее стран, а не против этой страны как таковой. Как вы думаете, если бы нацизм возник не в Германии, а во Франции, и если бы в сорок третьем году вашему отцу пришлось бомбить вместо Швейнфурта какой-нибудь, скажем, Клермон-Ферран, — он бы полетел?
— Очевидно, — сказал Фрэнк. — Я прекрасно знаю, что у отца не было никакой ненависти к немцам, как к народу. Надо полагать, он в этом смысле не делал бы разницы между ними и французами.
— Допустим, и русскими, не так ли?
— Очевидно, — повторил Фрэнк.
— Ваш отец, как вам, несомненно, известно, по своему возрасту мог уже не принимать личного участия в выполнении боевых заданий, не так ли? Значит, в тот день, когда его «крепость» вылетела на Швейнфурт, он был, по существу, добровольцем. Как вы думаете, Фрэнки, какая идея побудила капитана Хартфилда сделать этот шаг?
— Мой отец ненавидел нацизм еще с гражданской войны в Испании.
Флетчер, до этого момента молчаливо следивший за разговором из глубины своего кресла, кашлянул и посмотрел на Фрэнка:
— Простите, Хартфилд, разве ваш отец принимал в ней участие?
— Нет, сэр. Он собирался, насколько мне известно, но ему что-то помешало. Если не ошибаюсь, какие-то трудности с документами.
— Великолепно, мой мальчик, снова вмешался Альтвангер. — Капитан Хартфилд ненавидел нацизм — это мы установили. Надо полагать, это объяснялось тем, что именно нацизм был в те годы той силой, которая угрожала принятым в нашей стране принципам свободы. Вы согласны?
Фрэнк на секунду задумался, стараясь разгадать почудившуюся ему в этих словах ловушку.
— Нацизм в те годы угрожал всему миру, сэр, — сказал он наконец.
— Разумеется, разумеется, — с готовностью закивал Альтвангер, — ко мы говорим сейчас об Америке, о нашей стране. Вы ведь, простите, не коммунист?
Услышав этот вопрос, Хартфилд улыбнулся широко и простодушно, в первый раз за все время разговора.
— Что вы! — сказал он. — Никогда им и не был. Даже среди моих знакомых не было, пожалуй, ни одного коммуниста… Насколько мае известно, конечно.
— Мы так и думали, — одобрительно заявил Альтвангер. — И вы, надо полагать, коммунистическим идеям не сочувствуете даже издали?
Фрэнк опять подумал, прежде чем ответить.
— Я с ними, в сущности, не знаком, — сказал он извиняющимся тоном.
— Я не случайно задал вам эти два вопроса, сынок. Если вы свободны от влияния красных идей, то вы, очевидно, не можете не признать, что место нацистской Германии, как силы, реально угрожающей принципам свободы, заняла в наше время Россия. Я знаю, обычно инженеры мало интересуются политикой, но вы все же читаете газеты и не можете не понимать роли, которую играет сегодня Федеративная Республика… — Он говорил теперь совершенно серьезно, без тени улыбки в голосе, почти строго — как профессор, разговаривающий с не слишком понятливым студентом. — Хотим мы этого или не хотим — Западная Германия уже стала нашим партнером в оборонной системе Северо-Атлантического пакта и, по существу, нашим союзником. Лично я предпочел бы, чтобы этого не было. Лично меня — как и вас, как и миллионы американцев — гораздо больше устроило бы, если бы мир никогда больше не увидел ни одного немца в мундире. Поверьте в мою искренность, мистер Хартфилд. Мой отец родился в Германии, но это нисколько не влияет на мои убеждения. К тому же я хорошо знаю, что такое нацизм — может быть, следует сказать вам, что в апреле сорок пятого года я был одним из первых корреспондентов, своими глазами увидевших еще теплые печи крематориев. Я вошел в Дахау с танковым авангардом Паттона, если уж говорить более точно. Так что не примите меня за скрытого неонациста, ради всего святого! В принципе я против ремилитаризации Германии. Но вы согласны с тем фактом, что она уже идет так или иначе и была начата не нами, а русскими? Вам известно, что в Восточной зоне под видом «народной полиции» полностью восстановлен вермахт? Вы, наконец, согласны с тем основным, краеугольным положением, что сегодня Россия угрожает жизни и безопасности Америки?
Вопрос был задан прямо, и в такой форме, что не ответить было нельзя. Фрэнк добросовестно подумал.
— Очевидно, она угрожает нам в той же мере, в какой мы угрожаем ей. Видите ли, «холодная война» — вещь запутанная, тут уже иной раз просто не разберешься, кто кому начал угрожать и чьими действиями было вызвано противодействие другой стороны…
— Не нужно играть словами и понятиями, мистер Хартфилд. Были люди, которые ухитрялись заниматься этим и во время войны — в тот момент, когда ваш отец находился под огнем зениток. Они тоже не могли понять, «чьими действиями было вызвано противодействие», и вспоминали Версаль, и Седан, и Иену, и так далее, вплоть до Фридриха Барбароссы. Но таких, к счастью, было мало! Простые американцы — такие, как ваш отец, — они просто исполняли свой долг. И умирали за Америку и ее свободу. Неужели пример отца ничему вас не научил? Ведь вы — инженер, создающий боевое оружие; от вашей работы зависит оборонная мощь страны, а вы отказываетесь ее исполнять…
— Простите, сэр, — твердо перебил Фрэнк, — я никогда не отказывался от работы.
Альтвангер, уже начиная терять терпение, подскочил в кресле.
— Да как же не отказываетесь, когда вам поручают делать это, а вы заявляете, что согласны делать только другое! Неужели вы думаете, что руководство фирмы не знает, где именно вы способны принести наибольшую пользу? Я понимаю, что вам неприятно будет работать с немцами; но послушайте, с каких это пор исполнение долга стало связываться с приятными ощущениями? Да смысл его в том и заключается, чтобы ради принципа пойти на самое неприятное, на самое трудное, самое страшное! Пожертвовать самым дорогим! Ваш отец отдал Америке жизнь, а вы не хотите пожертвовать своим душевным комфортом…