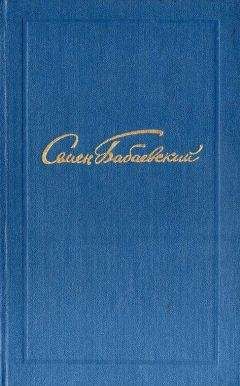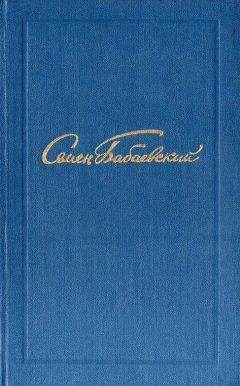— Ба! Алексей Степанович! Ай, приметный же ты человек!
Алексей Степанович Артамашов подошел к Хохлакову живой, мягкой и почти неслышной походкой, усмехнулся и так блеснул мелкими красивыми зубами, точно говорил: «На то я и Алексей Артамашов, чтобы быть приметным…» После этого старые друзья с каким-то особенным удовольствием пожали друг другу руки.
— Ты все такой же ухарь! — отечески ласково сказал Федор Лукич.
— А что ж! Живу не тужу!
— Урожай повышаешь? — поинтересовался Федор Лукич, и в голосе его прозвучала нотка сожаления.
— Еще как повышаю! — прихвастнул Артамашов, выпрямившись.
— Какими судьбами к нам залетел?
— Сергей вызывал.
— Да ну! — Федор Лукич причмокнул языком. — Это зачем же ты ему понадобился? Небось опять для нагоняя?
— Эге! Не угадал! Тут, Федор Лукич, пахнет не нагоняем! Такое заварилось, что и разобрать трудно. — Артамашов еще сильнее сбил кубанку на лоб, так что теперь она держалась на его жестких и буграстых бровях. — Сергей интересуется моим урожаем — вот оно что! Теперь всему району видно, что мы Рагулина опережаем, можно сказать, кладем этого скрягу на обе лопатки, и тут я так думаю про себя: боится Сергей за авторитет Рагулина… Неудобно ему сообщать в край и в Москву такие данные, что в колхозе имени Ворошилова урожай выше, чем у хваленого Рагулина… Вот оно, Федор Лукич, какая была у Сергея цель!
— Так, так, — задумчиво проговорил Федор Лукич и покатал пальцем по губе родинку, как шарик. — Это интересно… Мысль у тебя весьма правильная… А зараз же ты куда?
— К себе, в Усть-Невинскую.
— Да ты что? Поздно… Куда в ночь?
— А у меня есть конь.
— Все одно. — Федор Лукич взял Артамашова за рукав. — Идем ко мне. Бери и коня, у меня есть и ему место… Переночуешь, поговорим, видимся-то мы нечасто… А утречком и поедешь… Не! Не! Не! Ни за что не отпущу.
Они прошли через площадь, и, как только свернули на неширокую, поросшую травой улицу, у Артамашова заныло сердце, а отчего, он и сам не знал. Может быть, оттого, что уже издали увидел хорошо ему знакомые вишневые ветки, упавшие на дощатую изгородь, и опрятный домик под белой черепицей, и два окна в зеленых ставнях, как в рамах, смотревшие на улицу, и палисадник, и деревянную скамейку. А может, и оттого стало на сердце тяжко, что вспомнилось то время, когда он был председателем колхоза, и часто, бывало, под вечер вот по этой улице гремела его тачанка, и вон у той калитки кучер осаживал горячих коней. Артамашов соскакивал на ходу и, открывая ворота, как у себя дома, пропускал тачанку, и во дворе вместе с женой Хохлакова, Марфой Семеновной, и кучером сносил в сенцы корзинки, сверху зашитые марлей, мешок с мукой, какие-то кульки и бидончики. После этого молодцеватым шагом шел в дом, а Федор Лукич уже стоял на пороге и приветствовал хриповатым басом: «А! Алексей Степанович! Гордость района!..»
Теперь все было буднично-скучно, и они шли молча, понуря головы. «И за каким чертом я сюда плетусь? — со злостью думал Артамашов. — Недавняя рана и так не зарубцевалась, а я ее еще солю…» Он хотел остановиться и крикнуть: «Не пойду! Были денечки — на тачанке ездил, а пешком ходить сюда я не привык!» Но Федор Лукич уже открыл калитку и пропустил гостя вперед.
Во дворе дымилась обычная, какая бывает у казаков, летняя печка, и тут же, присев на корточки, Евсей Нарыжный ощипывал петуха, придерживая рукой окровавленную шею. «Это еще что за беркут?» — подумал Артамашов, покосившись на Нарыжного.
— А вот нам и жарковье готовится! — сказал Федор Лукич.
— Марфе Семеновне подсобляю, — пояснил Нарыжный, вставая и отряхивая с колен прилипшие перья. — Она ушла к соседке за перцем, а я общипываю…
— Ты брось это бабское занятие, — строго приказал Федор Лукич и обратился к Артамашову: — Алексей, где твой конь? Пусть Евсей сбегает и приведет… В стансоветской конюшне? Напиши конюху записку. — И снова к Нарыжному: — Да ты хоть руки помой, а то на разбойника похож…
Артамашов прислонился к подоконнику и стал писать на листке из блокнота. Федор Лукич опустился на разостланную под стеной полость и хотел разуваться, но тут подбежал Нарыжный и, опустясь на колени, стал снимать с его ног сапоги.
— Ты! Ты! Здоровило! — простонал Федор Лукич. — Легче тяни, а то ногу оторвешь!
«Или холуя нажил при старости лет?» — подумал Артамашов.
Нарыжный взял записку и ушел. Федор Лукич сидел, опершись спиной о стенку и вытянув ноги.
— Эх, ходули, брат, плохо держат! — сказал он, похлопав ладонью ноги. — Болят… Садись, Алексей, отдохнем, старое вспомним, а тем временем нам петуха зажарят… По рюмочке тоже найдется ради такого случая. Я хотя сам и не пью по причине сердечных перебоев, — он глубоко вздохнул и положил ладонь на грудь, — а для гостей завсегда держу…
— А что это у тебя за птица? — спросил Артамашов, кивнув на ворота, куда ушел Нарыжный.
— Да разве ты его не знаешь? Евсей Нарыжный, бывший председатель «Светлого пути». — Федор Лукич пощипал родинку на губе и задумался. — Да, Алексей, бывший… У тебя с ним одинаковая участь — оба в одно время попали на зубы Тутаринову… и теперь оказались бывшие.
— Это тот, что с хлебом мудрил? — спросил Артамашов. — Так его должны были судить?..
— А за что? — Федор Лукич усмехнулся — Улик не оказалось. Тутаринов же в суде власти не имеет, приказать не может, а суд невинного человека наказывать не решился…
— А чего он у тебя? В ординарцах?
— Конюхом взял. Ну, а по старой дружбе у меня бывает, проведывает… На ночь он уйдет к лошадям. Мы их ночью на выпасе держим.
— Глаза у него какие-то чертячьи, — как бы про себя сказал Артамашов. — Что-то в них так и блестит… Противно!
— Это, Алексей, блестит живая мысль! — Федор Лукич хрипло рассмеялся. — Мужик он башковатый, я его знаю. Приставь его к любому делу — и поведет, еще как!
Пришла Марфа Семеновна, держа в пальцах, как огонек, красный стручок перца. Пожилая и такая же, как и муж, рыхлая, она еще молодилась и была, не в пример Федору Лукичу, при здоровье. Артамашову улыбнулась еще у калитки, а поздоровалась с ним, как с родичем, даже прикоснулась своими мягкими и мокрыми губами к его щеке и, вытирая платочком опухшие глаза, сказала печальным голосом:
— Эх, Алеша, Алеша! Никак я не могу поверить, что ты уже не тот, кем был…
— А тебя, Марфуша, и верить никто не принуждает, — сказал Федор Лукич.
Артамашов промолчал, и его сухое, загорелое лицо помрачнело. «Ох, и не люблю, когда баба жалеет, — думал он, чувствуя ноющую боль сердца. — Все ж таки зазря я сюда пришел, только растравлю себя…»
Такое тягостное настроение не покидало Артамашова и позже, когда уже совсем стемнело и Нарыжный привел коня, а Марфа Семеновна накрыла в комнате стол и пригласила ужинать. Есть ему не хотелось, хотя от курятины, зажаренной с картошкой и приправленной лавровым листом и перцем, исходил приятный запах. Не помогла и рюмка водки, которую Артамашов выпил, не закусывая, — по-прежнему ныло сердце, и было так тоскливо, что ни о чем не хотелось не только говорить, но и думать, и ему теперь казалось, что причиной этому было то, что у Хохлакова находился этот Евсей Нарыжный с какими-то неприятными глазами…
Евсей Нарыжный, быстро захмелев, подбавлял себе в тарелку картошки, зацепив при этом куриную ножку, горячо доказывал, что с Федором Лукичом даже в трудное военное время работать было легко; глаза его все время ласково жмурились. «Ну, затянул шарманку и щурится, как кот на сало», — со злобой подумал Артамашов, нехотя обгрызая досуха зажаренное крылышко. А Федор Лукич, и нательной рубашке, откинулся на спинку стула и, слушая Нарыжного, ухмылялся, и нельзя было понять: одобряет или порицает своего словоохотливого друга.
— Как было допрежь? — говорил Нарыжный, разливая в стаканы водку. — Сказал Федор Лукич — и в одно мгновение любое задание исполнено! А почему? Да потому, что допрежь дружба была… Раньше как бывало…
— Погоди, Евсей Гордеич, — перебил Федор Лукич, — ты прежние времена выбрось из головы и забудь, того уже не воротишь. О настоящем надобно думать, да еще как думать! Правду я говорю, Алексей? И чего ты ныне такой квелый? Ты ли это, разудалая душа?!
— Должно быть, мало выпил, — грустно проговорил Артамашов, и сухое его лицо скривилось горько и болезненно.
— А пить будем! — выкрикивал Нарыжный. — Кто нам запретит? У меня был начальником и остался один Федор Лукич… Во всем свете я никого не признаю, а его уважаю…
— Помолчи, Евсей, — сказал Федор Лукич. — Не в выпивке зараз дело… Да и пьют много только дураки… Да, так вот, я хочу сказать о тебе, Алексей Степанович, и о тебе, Евсей Гордеич. Эх, хлопцы, хлопцы, гляжу я на вас, и жалость меня разбирает… Были оба председателями, ты, Евсей, верно подметил: бывало, дашь вам команду — и уже спокоен: потому — орлы! А теперь кто вы? Одного Тутаринов из партии вышиб, в полевую бригаду послал, как на посмешище, другого судить собрался, и теперь он конюхом на мельнице… А дальше что?