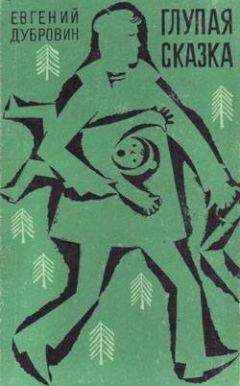Но они все ходили, бегали, двигали мебель, разговаривали, смеялись и даже не догадывались о его присутствии.
К вечеру женщине удалось спуститься к нему в подземелье.
– Спортсмен, – сказала она. – И с ним мальчик, сын…
Он по-прежнему не мог понять свои чувства.
– Если отец… Если он уйдет в магазин или еще куда, – у мужчины на миг прервался голос. – Приведи ко мне мальчика…
Она не поняла.
– Привести? Но ведь…
– Приведи. Он ничего не поймет.
Она испугалась.
– Ты что, хочешь…
Он усмехнулся.
– Приведи. Я просто поговорю с ним…
Женщина решительно мотнула головой.
– Нет. Это опасно. Он всем расскажет.
– Я попрошу, чтобы не рассказывал.
– Он все равно расскажет.
Мужчина вдруг сник.
– Да, расскажет…
Она привычно взяла его руку, нашла пульс.
– Ты плохо себя чувствуешь? Сердце колотится…
– Да… да… сделай укол…
Ночью он неслышно поднялся из своего подземелья, прокрался к комнате постояльцев, постоял у двери… Из комнаты не доносилось ни звука… Постояльцы спали. Мужчина осторожно дотронулся до ручки и нажал на нее. Дверь была закрыта изнутри.
И опять он не знал, что бы сделал, если бы дверь оказалась открытой…
Часть вторая УТРО, ПОЛДЕНЬ, ВЕЧЕР
Меня разбудило осторожное постукивание в окно, словно кто-то пытался проникнуть внутрь комнаты, но делал это непрофессионально. Еще ни разу не просыпался я от таких странных звуков, может быть, только в детстве, когда в нашем старом доме в морозные ночи начинали охать и скрипеть половицы. Я приподнялся на локте, ощущая давно забытое детское чувство страха.
В окно стучала лапой сосна-подросток. Ее огромная мохнатая мама, стоя за спиной дочки, подталкивала ее, словно поощряя безобразничать, а сама тоже шуршала и стучала лапами по крыше. На улице было солнце, но лишь один зайчик пробился сквозь мохнатую семейку и сейчас скакал и резвился по желтому, чисто отскобленному полу.
Я сел на кровати и оглядел комнату. Вчера вечером она показалась мне менее уютной. В сумерках тяжелая мебель, которую все-таки заместитель по хозчасти понатащил сюда, не устояв перед соблазном блеснуть перед иностранцем, казалось, давила своим громоздким вычурным стилем. Сейчас мебель не выделялась, не выглядела такой страшной. Наоборот, резными ножками, когда-то полированными, а теперь потускневшими и изъеденными червем, книгами с золотыми обрезами, набитыми в этажерку, и кое-где сохранившимся, невыпавшим перламутром, она странно гармонировала и с шумом сосен за окном, и с солнечным зайчиком, бегавшим по комнате, и с желтым, хорошо пахнущим чистым деревом полом. Я задержался мыслью на этой гармонии, и вдруг два слова пришли мне на ум: «Другой век». Не было ни несмолкавшего даже глубокой ночью грохота транспорта, ни двиганья мебели и топота проснувшихся соседей, ни глухого, всегда неожиданного и пугающего клекота унитаза за стеной, ни воя транзисторов из скверика напротив, через дорогу, ни телефонных звонков в самое неожиданное время суток… А самое главное, не надо было никуда спешить, вламываться в битком набитый троллейбус, лавировать в толпе на узких тротуарах…
Рис спал напротив меня на плюшевой кушетке в стиле какого-то Людовика, головой в сторону этажерки, из которой тускло поблескивали старой позолотой тома словаря Даля и иностранные издания книг неизвестных мне авторов. В ногах его стоял туалетный столик из красного дерева на гнутых ножках. На нем возвышались хрустальный графин и мутный пожелтевший стакан. Лицо Риса было мрачно и сосредоточенно, иногда даже принимало угрожающее выражение. Кулачки в царапинах сжимались и разжимались. По всем приметам, Рис сражался во сне со своими врагами.
Я посмотрел на часы: половина седьмого – пора было подниматься, чтобы увидеть молодое утро. По глазам Риса чиркнул все тот же никак не могущий выбраться из комнаты солнечный зайчик.
Сын сморщил конопатый нос и чихнул. Я слегка потрепал Риса за ухо.
– Подъем…
Никто никогда не будил Риса при помощи трепания за ухо. Его будили нежными поцелуями и щекотанием подбородка о животик. Поэтому Рис, вполне естественно, не открывая глаз, спросил недовольным голосом:
– Кто там?
– Берендей.
– Какой такой еще Берендей?
– Ну Бармалей.
Рис продрал кулаком один глаз и уставился на меня.
– А… Это ты. Дай мне поспать.
С этими словами Рис чихнул и повернулся ко мне спиной.
Я сдернул с него простыню.
– А ну вставай! На физзарядку становись!
– Отстань!
– Подъем!
– Да дай же мне поспать. Вот привязался!
– Ты еще грубишь. – Я потянул Риса за ухо.
– Хуже будет, – предупредил Рис и, поскольку я не отпускал ухо, впился мне зубами в руку.
– Ну держись!
Я потащил Риса за ногу. Сын тут же свернулся в клубок, как еж.
– Хоть что со мной делай – ни за что не встану! – заявил он. – Хоть убей! Мама, что он ко мне пристал?
Рис уже успел забыть вчерашние события.
– Не встанешь?
– Мать, он лезет ко мне!
– Даю срок – минуту.
Рис даже не подумал ответить на это предупреждение. Минута прошла в молчании. Рис притворялся крепко спящим. Я набрал из графина в рот воды и рассеял ее мелкими брызгами над телом Риса. Наверно, это был непедагогический прием. Даже наверняка непедагогический. Но зато очень действенный. Рис взвился, как гимнаст над сеткой в цирке.
– Ты что? – завопил он. – Ты что делаешь?
– Я тебя честно предупредил.
Сын сделал попытку лечь опять, но не успел – тут его настиг второй дождь.
Рис яростно вскочил на ноги и вдруг увидел незнакомую комнату. Секунду он таращил глаза в величайшем недоумении, но потом, видно, все вспомнил. Рис опустился на кровать.
– Это, значит, и есть страна Будьчел?
– Она самая.
– И мы всегда будем здесь рано вставать?
– Безусловно. Здесь все рано встают.
– А еще что?
– Ну, для начала умоемся. Да не так, как ты обычно делаешь: смочишь глаза и нос теплой водой, а по-настоящему.
– И шею, значит?
– А как же ты думал?
Миновав коридор, я вышел на крыльцо. Было свежее, слегка ветреное утро. Солнце только что выдралось из близкого леса, и к нам через неширокий лужок зигзагообразно тянулись темные, почти черные копья теней. Они пересекали наш заросший травой, огороженный слегами двор, шли мимо дощатой, из серого, обмытого дождями теса, уборной, почему-то обитой ржавым листовым железом, как-то быстро и узко перебегали через огород и исчезали в лесу, подступавшем к нам с другой стороны. На солнечной части двора, у летней печки, под железным навесом из такого же ржавого железа хлопотала Анна Васильевна. Синий дым из печной длинной трубы уносило в лес.
Крыльцо было слегка темным от росы. Там, где щели между досками суживались, лежали светлые круглые бусинки. Я переступил через две влажные ступеньки и сел на третью, самую последнюю, которая была почти сухая, так как солнечная полоса проходила совсем рядом и успела высушить ступеньку.
Анна Васильевна почувствовала движение, обернулась и, увидев меня, низко поклонилась, как еще кланяются старые крестьянки в глухих местах России. Мне стало неудобно. Я приподнялся и тоже неловко склонил голову.
– Как спалось, сынок?
– Ничего не помню. И снов никаких не было. Как на том свете побывал.
– Притомились вы вчера больно. Когда накрутишься за день, спишь не чуя ног Да и воздух у нас вроде как пьяный. Я дверь в сени открыла. Пусть, думаю, воздух свежий идет. Окошко не стала открывать, беспокоить побоялась. Да и дождик ожидался. Ненароком мебель зальет. Видал, мебель-то какая? Наум Захарович постарался. Всю контору обобрал. Это еще от Барина осталось. Когда Барин тут жил. Мужики поначалу жечь собирались, а потом рассудили: чего жечь, если по хатам можно разобрать, вот и растащили. Ну, а потом, когда Колька барином стал, велел назад все собрать…
– Это какой же Колька?
– Ну академик этот… Каучуров. Который при немцах пропал.
– Ну какой же он барин?
– Эт я по-старому так понимаю.
– Вы его видели?
– Как тебя.
– А Барина?
– И Барина хорошо помню. Лютый человек был из-за добра своего. Леса, то есть. Не приведи господь, если порубку кто сделает. А так он ничего. Зазря не обижал. Растения все собирал. Весь дом растениями был завален. Ему и из других держав присылали. Все сажал. Думал, приживутся. Некоторые приживались. Сейчас уж ничего не осталось. То в войну их побило, то сами поумирали. Новый-то барин, в смысле академик, больно не любил их, иностранных растений этих. Свои, говорит, надо растить, которые испокон веков были. Все мечтал такой дуб вырастить, чтобы зимой зеленый стоял… Чего ж я разболталась? – спохватилась Анна Васильевна. – Соловья баснями не кормят. Я завтрак вам сготовила. Зови мальчонку-то.
– Да зачем вы это… Мы в столовую будем ходить.
– Когда и сходите. Успеете еще казенных щей нахлебаться.