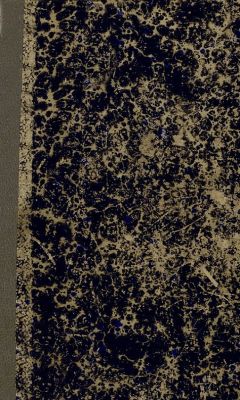— Душенька, о бэтній мой малютка! — говорила ей ломанымъ языкомъ на похоронахъ Скрипицыной какая-то нѣмка. — Фи совсѣмъ сиротъ, никого у фасъ нѣтъ?
— Никого! — опустивъ голову, отвѣтила Варя.
— О, я такъ любить такой молотенькой созтань! — воскликнула съ чувствомъ нѣмка. — Хотитъ, а фасъ къ себѣ беретъ?
Варя взглянула на нее благодарными глазами и вдругъ почувствовала, что кто-то грубо, по-мужицки, дернулъ ее въ сторону.
— Чего вы съ ней разговариваете? — произнесъ молодой, но суровый голосъ.
Варя съ изумленіемъ взглянула на юношу.
— Никогда не говорите съ ней; слышите? не то пальцами на васъ показывать будутъ, — продолжалъ онъ.
Нѣмка снова подошла къ Варѣ.
— Послушайте, мадамъ, лучше не подходите къ ней, худо будетъ, — погрозилъ юноша нѣмкѣ.
Нѣмка сцѣпилась съ нимъ ругаться; а Варя поспѣшила уйти. Ей было знакомо это молодое, широкое лицо, но она забыла имя этого человѣка…
Что же оставалось ей дѣлать?..
VI
Приснухины, — романъ въ одной главѣ
Разговоръ Вари съ нѣмкой былъ прерванъ Порфиріемъ Приснухинымъ. Хорошо ли, дурно ли было это вмѣшательство, — объ этомъ нечего говорить; но во всякомъ случаѣ оно показывало, что Приснухинъ рано началъ понимать многое и могъ возбудить любопытство своею особою. Глядя на его голову, можно было сказать: да, это будетъ энергичный человѣкъ! Рядомъ съ этими словами идутъ мечты о свѣтлой жизни, о широкой дѣятельности, о великихъ поступкахъ… Но, Боже мой, какъ много видѣлъ я энергичныхъ головъ, никогда не сдѣлавшихъ ничего путнаго въ жизни! Не будемъ же увлекаться мечтами, пророчить славу энергичнымъ головамъ, но шагъ за шагомъ станемъ слѣдить за ихъ жизнью, и если будетъ счастье — порадуемся, если же ихъ ждетъ нравственная гибель — поплачемъ, — вѣдь это намъ не новость!
Какъ же развивалась энергичная голова Порфирія?
Мать Порфирія была изъ крѣпостныхъ, — дѣло, какъ ведите, было очень давно и принадлежитъ къ числу казусовъ, сданныхъ въ архивъ. Сначала дѣвочка Глаша играла съ барышней и барчонкомъ и отъ нихъ научилась грамотѣ, ариѳметикѣ и клочкамъ другихъ наукъ; потомъ барышню отдали въ институтъ, барченка въ гимназію, а Глашу засадили въ дѣвичью, и она плела по цѣлымъ днямъ кружева или вышивала прошивки, воротнички, нарукавнички и изрѣдка, во время отсутствія господъ, урвавшись на свободу, въ село, смотрѣла на хороводы, присутствовала на посидѣлкахъ. Молодая, стройная, здоровая, она была типомъ тѣхъ дѣвушекъ, которыя расцвѣтали въ дѣвичьихъ старыхъ, хорошихъ помѣщичьихъ домовъ. Не было у нея ни особеннаго горя, ни особенныхъ желаній; всегда она была сыта, находилась въ теплой, сухой комнатѣ, пользовалась расположеніемъ добрыхъ, простыхъ господъ и, конечно, не заглядывала со страхомъ впередъ, такъ какъ впереди не предстояло особенныхъ печалей: ее ждало мѣсто горничной при молодой доброй барышнѣ, а тамъ — ну, нянькой сдѣлаютъ, въ ключницы произведутъ, какой-нибудь любимецъ барина камердинеръ на ней женится… Наконецъ, пришли годы, когда барышня вышла изъ института, — господа поднялись съ насиженнаго гнѣзда, поѣхали въ Петербургъ и взяли съ собой Глашу. Поселились господа въ «большомъ домѣ». Столичный блескъ и шумъ, балы у господъ, привѣтливость молодой институтки-барышни, ласковость молодого барина-студента, росшаго тоже съ Глашей, общія воспоминанія о далекомъ дѣтствѣ, почетъ и заискиванье со стороны бѣдныхъ жильцовъ большого дома, — все это вмѣстѣ заставило Глашу успокоиться и осушить слезы по деревенскомъ углѣ, гдѣ жилось такъ тихо и мирно, гдѣ плылъ такой свѣжій воздухъ въ окна, гдѣ то соловей вечеромъ пѣлъ за густымъ малинникомъ, то издалека слышались ухарскіе звуки балалайки и пѣсни какого-нибудь парня, или звенѣли бубенцы на большой дорогѣ все ближе и ближе и заставляли молодое сердце биться непонятнымъ любопытствомъ: кто это тамъ ѣдетъ? мимо или къ намъ? если къ намъ, то надолго ли? можетъ-быть, это молодой баринъ?.. Въ Петербургѣ, сходя по черной лѣстницѣ, Глаша часто встрѣчалась съ какимъ-то вертлявымъ, припомаженнымъ юношей, постоянно отдававшимъ ей поклонъ.
— Наше вамъ-съ почтеніе, — говорилъ кавалеръ, наотмашь снимая фуражку и шаркая по-господски ногою.
— Здравствуйте, — сухо кланялась Глаша.
— Что рѣдко изволите выходить-съ, осмѣлюсь сдѣлать вопросъ?
— Мнѣ и въ комнатахъ хорошо.
— Это показываетъ вашу безчувственность, потому что есть люди, которымъ ваше отсутствіе причиняетъ печаль.
Глаша хихикала надъ вычурными фразами кавалера и, слыша его тяжелый, похожій на сопѣнье вздохъ, спрашивала, убѣгая въ комнату:
— У васъ, вѣрно, насморкъ?
Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ кавалеръ, называвшійся Александромъ Приснухинымъ, презентовалъ Глашѣ колечко съ бирюзой. Глаша не хотѣла брать; кавалеръ умолялъ ее взять подарокъ, объясняя, что «вы, молъ, не подумайте чего дурного, а это мы вамъ презентуемъ только ради нашего уваженія». Глаша, смѣясь, взяла колечко. Любовь Приснухина была проста, серьезна; выраженія ея были вычурными, шутовскими. Вліяніе трактирныхъ знакомствъ и лакейской полированности не могли не сказаться въ дѣлѣ любовныхъ объясненій. Глаша слышала только эти смѣшныя фразы, — но не знала, что таится подъ ними, и не могла смотрѣть серьезно на знакомство съ Приснухинымъ. Послѣ перваго подарка она, еще смѣясь, еще не измѣняя своего гордаго вида, чаще говорила со своимъ поклонникомъ. Это дало ему смѣлость подарить ей платочекъ и выразить крайнюю степень своей любви къ ней щипкомъ въ руку повыше локтя. На это Глаша отвѣтила сильнымъ ударомъ по рукѣ Приснухина и строптиво замѣтила ему:
— Вы рукамъ воли-то не давайте, я вамъ не позволю!
Какъ видите, дѣла шли къ обычной развязкѣ, къ свадьбѣ, но вмѣсто свадьбы произошло совсѣмъ другое: Глаша вдругъ начала избѣгать встрѣчъ съ Приснухинымъ и, встрѣчаясь съ нимъ, на всѣ его любезности отвѣчала, что у нея нѣтъ свободнаго времени говорить съ нимъ. Приснухинъ вздыхалъ, но Глаша уже не хихикала и оставалась серьезной, даже грустной. Какъ-то поклонникъ рѣшился высказать яснѣе свою любовь, но ему отвѣтили:
— Полноте, что вамъ меня любить!
Приснухинъ опустилъ голову, его поразилъ грустный и серьезный тонъ этихъ словъ. Встрѣчи кончились, — правда, была еще одна встрѣча, но Глаша даже не замѣтила своего обожателя.
— Что за жизнь распроклятая, такъ я и изобразить тебѣ, братецъ ты мой, не умѣю, — говорилъ Приснухинъ тощему сосѣду слесарю, уже знакомому читателямъ.
— А по мнѣ — первое выпей, и ничего твоя жизнь съ тобою не сдѣлаетъ? Потому что вино — значитъ веселіе, духъ бодрый, вотъ оно что! — отвѣчалъ слесарь и брался за фуражку съ раздвоеннымъ козырькомъ.
— Въ кабакъ, кабакъ пойдетъ, такъ я и знала! кровопійца ты этакой, — кричала толстая слесарша. — И вы-то хороши, Александръ Ивановичъ, мужа моего смущаете, — накидывалась она на Приснухина.
— Помилуйте-съ, чѣмъ же мы тутъ причинны, — оправдывался Приснухинь.
— Какъ чѣмъ?.. Да чего вы нюни-то передъ нимъ распустили? Передъ нимъ заплачь, такъ онъ и думаетъ, что ему тоже ревѣть надо.
— Такъ что же-съ?
— Какъ что? Извѣстно, у него какъ слезы, такъ и водки подавай! Ужъ такой нравъ его, кажется, знаете, вѣдь не чужіе, — сосѣди… Ну, а тамъ бить начнетъ меня же, вамъ хорошо…
— Ужъ какое хорошо, — хуже быть не можетъ! — вздыхалъ Приснухинъ…
А Глаша дѣлалась все задумчивѣе и грустнѣе. Смѣхъ молодой, улыбка радостная, краска свѣжая на лицѣ,- все пропало. Люди около нея о чемъ-то шушукались, а она и смотрѣть въ глаза имъ не смѣла.
— Ты это что, какъ въ воду опущенная, ходишь, — сурово спросила у нея однажды барыня.
У Глаши навернулись слезы, и дрогнуло тѣло.
Барыня осмотрѣла ее пристальнымъ взглядомъ, а у самой сердце сжалось. Любила она Глашу въ теченіе многихъ лѣтъ чисто родственною любовью.
— Ты знаешь, у кого ты служишь? — еще строже и грознѣе спросила она, стараясь подавить въ себѣ чувство естественной привязанности къ Глашѣ. — У моей дочери, ты служишь, у дѣвушки, у ангела чистаго.
Глашу била лихорадка, грудь поднималась отъ сдержанныхъ рыданій…
— Что же ты думаешь, что и еще годы пройдутъ, а никто и не узнаетъ, въ какомъ ты положеніи? Ты взгляни на себя-то!
Глаша инстинктивно опустила глаза на свою талью и поблѣднѣла, какъ полотно.
— Хорошо? — спросила барыня.
— Матушка, Вѣ-ра Га-ври… — не договорила Глаша, захлебнувшись словами, и рухнулась къ ногахъ барыни.
— Глаша, Глаша, голубушка! — вырвалось у барыни, и она быстро наклонилась къ лежавшей на полу дѣвушкѣ.
Много-въ этотъ день пролилось слезъ.
— Не являлся бы ты ко мнѣ на глава, — говорила барыня Вѣра Гавриловна своему сыну-студенту. — Что ты надѣлалъ, за что ты ее погубилъ? Ты бы хоть вспомнилъ, что это за дѣвушка была!
Сынъ покраснѣлъ.