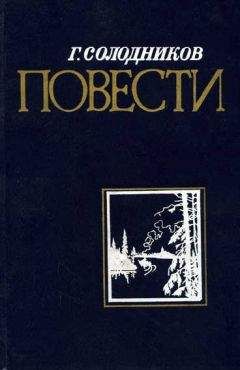Глянул еще раз Василий на парня, прижег от старой новую папиросу и закончил:
— Так-то…
Зная Василия, я нисколько не сомневался, что он свою угрозу выполнит, глазом не моргнет. Что касается всяких пакостников, тут он железный.
Когда мы с Семеном только-только прибыли на старицу, в домике никого не было. И мы поплыли искать Василия по разлившемуся озеру. Проплутали в кустах без толку. И вдруг в одном месте, где-то далеко за ивняками, голос истошный: «Дядя Вася! Василий!» Да часто так. Помолчат и опять орут. Потом, слышно, катерный мотор пострекочет и снова — крик.
Рассказали мы об этом вечером Василию.
— А-а, слыхал, — махнул он рукой. — Пусть плюхаются. Знаю я их, бракодёров! Ночью наверняка полезли сплавщики в старицу мои сети щупать. Да ошиблись протокой, попали в калужину. А вода-то, она вон как быстро уходит. Вот и сушат лапти…
Теперь, при людях, я напомнил и об этом случае Василию, раз тот сам завел разговор. Но он отнесся к моему замечанию равнодушно:
— Было…
Парень, что шумел, суетился, в себя пришел немного, притих.
Устал я от разговоров, вышел на берег покурить. И он за мной. Ласковый такой, внимательный. Лодку свою показывает, хвалится. И есть чем: дорогая дюралевка. Вытащил бутылку с молоком, угощает. Напрашивается на знакомство. Любопытствует: кто я да откуда?
Так, мол, отдыхающий. По земле брожу, любуюсь.
Вернулся я в избу. Минут через пять торопливо затрещал мотор.
— В деревню поехал. Знакомая у него тут, — успокоил всех тот, что из леспромхоза.
…Утром парень приплыл с «лекарством». Гости быстро похлебали ухи и, о чем-то поговорив с Василием, засобирались в путь.
Отчалив от берега, лодка пошла не вниз, как говорили они, а вверх, обратно. Но я не придал этому никакого значения. Мало ли что, у людей свои планы.
А вскоре пешком через остров с устья старицы пришел один из рыбаков.
— Уехали браконьеры-то? — спросил он у меня.
— Какие браконьеры?
— Да те, что были здесь? Специально на субботу и воскресенье приезжали. Погулять, рыбки половить. Да на вас с техноруком наткнулись. Парень-то с нами у запора ночевал. В моторке нос у него весь забит сетями. Не заметили?
Тут только я по-настоящему понял смысл той корявой фразы, с которой настырно лез пьяный моторист к бригадиру. Дескать, мы тебя вволю угостим, не поскупимся, а ты, подобрев, на наши дела глаза закрой. «Сто грамм пьем — характер меняем…»
Я не знаю, о чем думают все они в разные времена года. Знаю лишь о том, что думала Машка в эту весну.
Машка — молоденькая мосластая лошадь. Обычная трудяга, каких тысячи. Масти она вообще-то грязно-белой, но от долгого зимнего стояния в тесной конюшне сильно пожелтела, солнце и дожди еще не успели выбелить ее.
Держать Машку бакенщику Сергею не в тягость. Покосов вокруг, по реке да озерам — коси не перекосишь. Работы же для нее невпроворот. И летом и зимой с утра до вечера она вздрагивает от крика: «Н-но, милая! Шевелись!» И напрягается всем телом до последней жилки. Зимой еще хорошо — сани идут полегче. Летом же в этих местах с телегой делать нечего. Все на волокуше: и копны сена, и кряжи, и другую кладь.
Лишь с середины апреля, когда солнце и вода источат лед на реке, до конца мая у Машки курортный сезон. Делать нечего, и никуда не выедешь: полное бездорожье. Путевой пост с трех сторон окружает вода, с четвертой — леса и леса.
Целыми днями Машка одиноко бродила по поляне вдоль берега. Лениво отмахивалась от первых слепней и чутко дремала, стоя у высокой поленницы дров. Изредка она прядала ушами и подолгу прислушивалась, будто ждала кого-то. Иногда поднимала голову, поворачивала ее туда, где скрывалась за поворотом река, и у нее чуть заметно дрожали ноздри и светлели маслянистые глаза.
За месяц она уже привыкла к долгому безделью и все чаще и чаще поглядывала в сторону деревни. Слушала крики петухов, ржание лошадей, и ветер доносил до нее родные запахи конного двора.
Даже на ночь Машку не загоняли в загородку, и она ходила на воле. Я видел однажды, как она долго стояла, склонив голову, у самой воды и смотрела на бегущую мимо реку. Губы ее шевелились, словно шептали что-то. С них срывались крупные капли. Падая, они расшибались, и в легкой ряби тогда колыхались предутренние звезды.
Но вот настало такое утро, когда Сергей взял крупный рашпиль да напильник помельче и пошел точить старенький, поржавелый плуг.
Земли под огороды вокруг хватает. Здесь когда-то стояло с десяток бараков. Жили лесорубы. Земли вокруг распахано было много. Теперь от поселка остались лишь две жилые избы, поближе к берегу, сараи, банька да несколько провалившихся конюшен-полуземлянок.
Хорошо поработал Сергей в первый день. Заглянул в избу к Василию довольный.
— Наломались мы с Машкой с отвычки-то…
Назавтра плановал вспахать еще один участок. А уж на другой день — и последний.
В этот вечер Машка не задержалась возле конюшни, а сразу ушла в дальний конец поляны, к ивнякам. Она стояла там, усталая, расслабленная, и думала про свою одинокую и однообразную жизнь.
Над раздольной рекой, над тихими избами летели очень редкие на Каме лебеди. Они, говорят, гнездятся в этих местах лишь на затерянном среди лесов и бездорожья озере Адовом. Они неторопливо летели в густой синеве и роняли на землю стеклянное «клинк-кланк». Машка слушала, поводя ушами, потом задрала голову и заржала чуть слышно.
«Клинк-кланк». Этими звуками для нее началась весна, когда покатилась с конюшни ледяная капель. «Клинк-кланк», — кричали лебеди, и это означало, что весна в разгаре и совсем немного осталось до лета с его медвяными запахами свежескошенных трав. И, знать, вспомнился Машке прошлогодний сенокос: дымы костров, звонкий смех подолгу не спящих парней и девчат и веселый табун лошадей. Машка легко находила его по разноголосым колоколам, издали сливающимся в однообразное «клинк-кланк», которое затихло сейчас там, за лесом, где скрылись редкие и необыкновенные птицы — лебеди.
Наутро Машки не было ни на прибрежной поляне, ни в ближайшем лесу, ни на берегу озера. Я думал, Сергей встревожится. Нет. Он лишь незлобиво ругал Машку.
— А-а, не понравилось робить. Молодая еще, не ученая. Испотачили…
Нашел он ее в лугах на дальнем берегу озера. Привел домой уже в сумерках, загнал в загородку и еще нацепил на шею колоколец-ботало.
Утром не успел я толком проснуться, как уже услыхал:
— Н-но, барыня! Пошевеливайся!
Сергей пахал второй участок. К обеду закончил его и перешел на последний.
Уже смеркалось, и повисла зеленоватая звезда над лесом, а он упрямо начинал новую борозду.
— Н-но, хитрая! Сама себя перехитрила… Не захотела в два дня дело сделать, делай в один.
Машка на секунду оборачивалась, укоризненно косила на него выпуклым глазом. Потом напрягалась вся, трогала с места плут и натужно шла по борозде, покачивая головой.
Может быть, потому, что я фантазер, а может, оттого, что уже начал задумываться о конце своего отпуска и впереди меня ждала работа, много работы, я по-своему понимал это покорное покачивание. Мне подумалось, что Машка молча отвечает Сергею на своем лошадином языке: «Согласна, согласна. От того, что предстоит сделать, меня никто не освободит. Не сделаю сегодня, придется наверстывать завтра. Согласна, я виновата. Я размечталась некстати и отправилась бродить по весенним лесам. Согласна, согласна. Я знаю теперь: чтобы иметь право мечтать и бродить по земле, надо работать, прежде всего уметь и любить работать».
Но в душе я был на стороне Машки. Когда она по обыкновению стояла около воды, свесив голову к бегучим струям, я подошел к ней и потрепал по гриве:
— Держись, старина! У нас все еще впереди…
Среди ночи, на полу в рыбацкой избушке, я долго пялил глаза на единственное подслеповатое оконце и не мог сообразить: где я? Наконец все понял, услышал посвисты ранних куличков и настойчивый звук Машкиного ботала: «Клинк-кланк… Клинк-кланк».
Он шагал за плугом, напружинив руки. На правой наполовину беспалой кисти побелели рубцы — отметина войны. Огород был давно не пахан, земля прошита корневищами, и плуг шел тяжело.
На лице пахаря было уже знакомое мне выражение. Углы тонких губ опущены книзу — почти параллельно двум бороздкам, идущим от носа. Широкие скулы да круто тесанный подбородок создавали такое впечатление, будто у него накрепко стиснуты зубы. Обычное выражение деловитости и упорства на лице занятого человека.
За все те дни, что я провел с Семеном, пожалуй, лишь во сне покидало его лицо это выражение. А спать ему приходилось очень мало.
— Мужики от меня не указаний, а дела ждут, — не раз говаривал он, и его белая лодка неутомимо сновала между путевым постом, временным рыбацким становищем на озере и деревней.