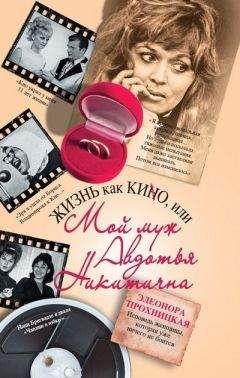— Я вам неправду сказала, будто сама обидела себя. Это я так думала до этой минуты. Муж полюбил другую, и я не стала его удерживать. А могла бы. Он коммунист и командир Красной Армии. Капитан. Его бы могли заставить жить в семье… А я подумала: разве это можно, по приказу? Пусть идет, он нашел свое счастье, и мы найдем. А не найдем — тогда и так проживем. Он ушел, мы остались одни, но никому счастья не прибавилось. Ни ему, ни нам. Верно, что я пошла на поводу у судьбы? За счастье, говорят, бороться надо, а я этого не сумела.
Чтобы ответить ей, Емельянов даже остановился так неожиданно, что она успела проскочить на две ступеньки выше его. Вот теперь их глаза оказались на одном уровне. Это ее очень смутило, она покраснела до слез, а он рассмеялся и погладил ее руку.
— Вас, конечно, называли «гарнизонная красавица?»
— Да… А как вы узнали?
— По вашему лицу. И по глазам. Красавица!
— Ох, как давно это было!
— Ну, я думаю, не очень-то.
Пятый этаж прошли молча и только на шестом задержались. Тут он сказал:
— Те, кто думает, что от счастья можно отказаться, ошибаются. Это невозможно. Наступает такой грустный момент, когда счастье просто уходит и задержать его невозможно. Нет у человека такой силы. Без причины добровольно от счастья еще никто не отказывался. Бороться, конечно, можно, даже обязательно надо. Всегда бороться и всегда искать.
— Бороться. — Она смущенно засмеялась. — Искать. Искать можно вещь, а человек должен сам находиться. Вот нашелся и потерялся…
— Вы его любите?
Любите? Нужно ли об этом спрашивать? Он понял, что не надо. Но, ничего не поделаешь, — уже спросил. Какие у нее удивленные и, несмотря ни на что, веселые глаза. Добрая она очень и безвольная. Ни о чем ее не надо расспрашивать. Убедить ее в необходимости бороться — вот что надо.
— Напишите ему. Война калечит счастье, ломает людей, но она же на многое открывает глаза. Напишите, послушайте меня.
Она растерянно отвела взгляд: он просит! Такой большой, доброжелательный, усталый, просит. А если и правда, если взять и написать?
— Мне кажется, он ждет, когда вы напишете.
— Так ведь не я, а он захотел уйти.
— Вот именно. Он виноват и не решается поэтому. Если человек совестливый, то ему труднее первому-то.
— Так и написать? Он, понимаете, Асеньке пишет, а мне нет. Он стесняется. Смешно.
— Конечно, смешно. Так вы сегодня же и напишите. И то, что он сделал, — все смешно: разве лучше вас отыщется для него человек? Именно смешно. Пошли дальше.
На площадке седьмого этажа он взял у нее черный футляр и поблагодарил за то, что она разделила с ним удовольствие восхождения.
— Удовольствие? Не сказала бы.
— А вы подумайте.
— Просто идешь, потому что надо. Деваться некуда.
— Умейте находить удовольствие даже в этом и никогда ни на что не жалуйтесь, как этот ваш футболист.
— Писатель.
— Тем хуже для него. Ломается, как футбольный премьер. Уж ему-то счастья не видать.
В дежурке ее встретила Митрофанова, ласковая, как кошка, ожидающая молока.
— Ну, что он, что?
Вера Васильевна засмеялась так легко и смущенно, что Митрофанова даже и расспрашивать не стала, все поняла именно так, как ей хотелось понять, и очень серьезно отметила:
— Вот и хорошо. Что же вам все в одиночестве? Чего он хоть говорил-то?
— А что он должен говорить? — все еще смеясь, продолжала Вера Васильевна. — Спасибо сказал, что проводила.
Кошка возмущенно фыркнула — вместо молока ей подсунули неизвестно что.
На ночь репродуктор выключали, потому что у отца сон был неважный и всякие посторонние шумы ему мешали. Сеня спал на диване у самого стола, где стоял репродуктор. Это было очень удобно: утром, не вставая с постели, можно было взять репродуктор и, укрывшись одеялом, спокойно, в тиши и в тепле, прослушать все военные сводки.
Прижимаясь ухом к холодной тарелке репродуктора, в это январское утро он услышал то, чего все давно ждали; войска Ленинградского и Волховского фронтов начали большое и успешное наступление под Ленинградом и Новгородом. Фашистские банды отступают под натиском нашей Советской Армии.
У него перехватило дыхание, и глаза налились жгучими слезами восторга.
— Ура! — крикнул он и включил репродуктор на всю его мощь.
Отец поднял голову:
— Ты что?
— Победа! — проговорил Сеня срывающимся голосом. — Под Ленинградом большое наступление. Слушай, сейчас будут повторять.
Они притихли, слушая ритмичное, как морской прибой, шипение репродуктора. Из коридора доносились возбужденные голоса, смех, стук дверей. К ним в дверь тоже постучали, и кто-то прокричал:
— Ленинградцы, наша берет! Включайте радио!
Но вот в коридоре все притихли. Сеня подумал, что сейчас притих весь мир, и в этой всемирной тишине торжественный, неумолимый, как голос рока, прозвучал голос диктора, сообщающий о справедливом возмездии. Отец и сын выслушали, восторженно и строго глядя друг на друга. И потом еще долго молчали, ожидая продолжения. Несмотря на ранний час, они и не думали о сне. Сидели каждый на своей постели, закутавшись в одеяла, потому что в номере, как и во всей гостинице, было холодно.
Стояла середина января, и такого злого мороза давно не бывало. Оконные стекла, белые и мохнатые от намерзшего на них инея, не оттаивали даже днем.
Время шло, а новых сообщений так и не было. Из репродуктора доносилась только музыка: бурные, звонкие марши. Сеня поежился под одеялом. Марши, сейчас-то зачем? Он все еще не мог забыть, как в первые дни войны все репродукторы, надрываясь, гремели бравурными маршами. Под этот грохот уходили на фронт; марши гремели, провожая эшелоны с детьми в неведомый путь; детские слезы, рыдания матерей и… марш. И когда мама в последний раз взмахнула рукой из тамбура санитарного поезда — тоже марш. Горе, пожары, сводки об отступлении, и снова марш. Марш…
А сейчас-то зачем? Победы следуют за победами, зачем те же самые марши? Тут должна быть какая-то другая, ликующая музыка. Недавно он играл Бетховена, Третий концерт. Вот что сейчас надо.
Отец попросил.
— Пожалуйста, сделай потише.
Сеня вытянул руку из-под одеяла, повернул регулятор, музыка зазвучала глуше.
— Как ты думаешь? Теперь скоро?
Отец определенно ответил:
— Весной будем дома.
— Дома? — с особым значением спросил Сеня.
— Да, — уточнил отец, — в Ленинграде. И мама вернется к нам.
Существенная поправка: дома — это когда все вместе, все трое. Тогда это дом. А без мамы? Об этом они не говорили, зачем растравлять раны? Но не думать о ней они не могли, и у них выработался своеобразный код, по которому они без ошибки расшифровывали все недосказанное. Так бывает в каждой семье, где надолго поселилось горе, о котором не надо упоминать без особого на то повода. Далее если это всеобщее горе.
Но нет в горе состояния хуже неведения. Ничего не зная о матери, Сеня мог только надеяться и не допускать мысли, что она может погибнуть. Но мысли, от которых хотят избавиться, очень назойливы. Как маятник, отсчитывающий ход жизни: могучая пружина жизни — сознание, всегда стремящееся к добру, дает ему толчок, но маятник неизменно возвращается обратно. И с той же силой, и в том же ритме, с какими работает пружина. «Жива — нет, жива — нет». Маятник. Эти колебания между надеждой и безнадежностью, между жизнью и смертью, иногда становились невыносимы. «Жива — нет, жива — нет…»
— Проклятые немцы, — проговорил Сеня, чувствуя, что к его торжеству примешивается ненависть.
— Фашисты, — уточнил отец. — Не все же немцы такие.
Он даже теперь старается быть справедливым, но Сеня не может согласиться с ним.
— А что они сделали с Ленинградом? Все они звери. Все.
Не слушая его, отец проговорил:
— Кончится война, пройдет какое-то время, вырастет и возмужает новое поколение, но никогда люди не забудут, что такое фашисты. Никогда. И, наверное, слово «фашист» станет самым оскорбительным ругательством. Вся грязь мира, все подонки человечества — вот что такое фашисты.
— Они всегда на нас лезли, когда даже названия такого не было!
— Названия не было, а фашисты были. И находились люди, которым это выгодно. Вот таких, только таких и надо уничтожать, как бешеных собак. Эта война многому научила все народы.
— Дорогая наука.
— От дорогой науки толку больше, чем от дешевой.
Сеня знал: доброжелательность никогда не мешала отцу быть беспощадным к человеческим порокам. К человеческим. Но ведь тут не люди, тут бандиты, звери.
Белые веточки инея на окне слабо зарозовели. Пора вставать. Раздался голос отца:
— Раз!
Сеня замер под одеялом. В голосе отца зазвучала несвойственная ему командирская жесткость: