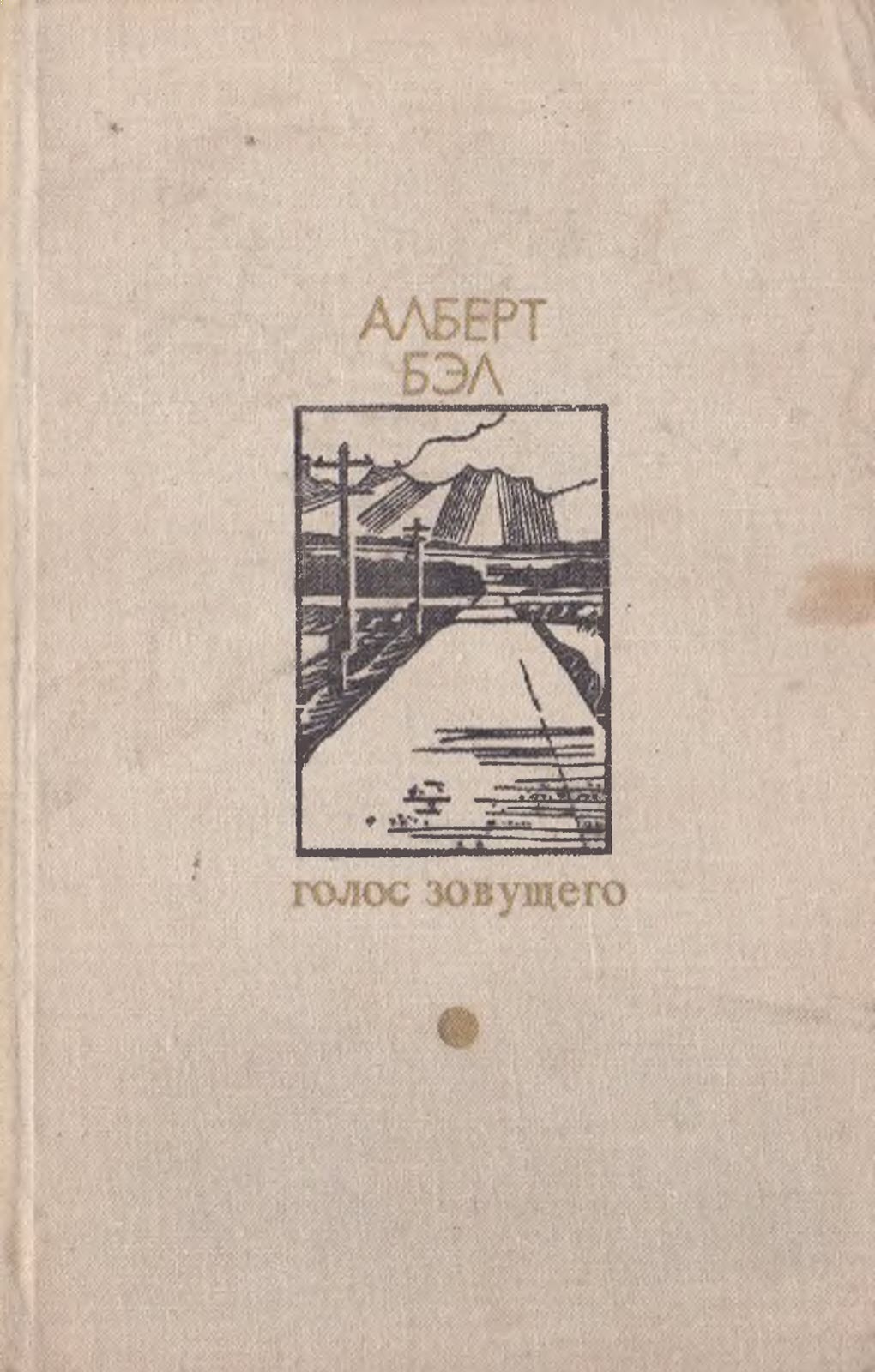человечество в ужасе содрогнется: ведь у подлеца две руки, две ноги и пара глаз, и голова одна, и, повстречав его на улице, можно не отличить от прочих смертных.
Через каменный век, седую древность, средневековье — кирпич к кирпичу, мысль к мысли — воздвигало человечество здание разума, и вдруг в какой-то грязной пустоте, лишившись опоры, сразу гибнут несколько жизней, и мы видим, что это дело гнусного подлеца, опозорившего род свой, имя свое на годы и годы.
Его императорское величество Николай II признал подлецов в государстве пользу приносящими, а равно вельможи его и чиновники сверху донизу признали, что подлость достойна поощрения, и посему щедро раздавали подлецам награды, повышения и прочие блага.
Подлость по воздействию сравнима с раком, и она поражает клетки здорового организма, процесс необратим, пораженные клетки не восстанавливаются, рак, вовремя не открытый, приводит к стопроцентному смертельному исходу.
Его императорское величество Николай II почитает рак святыней, рак в правительстве, рак в армии, рак в полиции, рак в торговле, промышленности, рак в человеческих отношениях. На зеленом ковре человечества отмирают гигантские куски.
И сколь бы парадоксально это ни звучало, царизм сокрушает царизм не меньше, чем мы, революционеры.
Прозрачная колба гласности опять упрятана цензурой за семью замками.
Не бросай в пучину камень, Он там покоя не найдет!
Да здравствует глупость Николая, да здравствует цензура, зажим информации, да здравствуют эксплуатация и притеснения, да здравствует русско-японская война? Не так ли звучит песня человеконенавистника, мизантропа? Это ли нужно людям? Достойна презрения история подлецов; монархия, самодержавие — благодатная почва для подлости, скотный двор царизма; ах, до чего суха теория, шуршат во рту кукурузные початки, которыми в мансардах питаются студенты, студенты из неимущих семей.
В Рижском политехническом вывесили траурные флаги, убит студент Печуркин — я хорошо знал покойника, двух его братьев, — снег истоптали башмаки провожавших, речей не было, не слышалось пения, но шепотом оброненные фразы вздымались над городом облаком человеческого дыхания, облако презрения людских тысяч плыло вслед за траурной процессией, и власти никого не посмели тронуть. Облако презрения било в небе мощным голубым барабаном, и фабричные трубы гудели органами, а подлецы от страха позабылись в норы, глядели оттуда маслеными глазками соглядатаев, с нетерпением дожидаясь ночной темноты.
— Я протестую против подобного обращения, — строго сказал Карлсон. — Я буду жаловаться министру юстиции.
— Даже так?!
— Самому министру?
— Ты что же, знаком с ним? Небось чаи вместе распивали?
— А не хочешь ли послушать, как пуля по лбу щелкнет? А? Для меня это раз плюнуть — спустить вот этот крючок, и баста! Ну?
Полицейский выждал, потом приказал:
— Прочь от окна! Подойди к столу!
В самом деле, на расстоянии вытянутой руки чернело забранное ставнями окно. Карлсон подошел к столу, Михеев спрятал свой наган.
— Кто выдал вам паспорт?
— Волостной староста. Можете удостовериться в волостной управе.
— Опять крутишь-вертишь?
— Говори правду! Проживал по улице Авоту, двенадцать?
— Никогда не проживал по улице Авоту, двенадцать.
— Смотри, он, наглец, даже не спрашивает, о каком городе идет речь.
— И никогда не заглядывал в Риге на Ревельскую, пятьдесят девять?
— Может, там и получил свой браунинг, забытый на подоконнике?
— Никогда не бывал на Ревельской, пятьдесят девять.
— Где живете?
— В Риге первый день, еще не снял квартиры.
— Назовите знакомых в Риге.
— В Риге никого не знаю. Не успел познакомиться, — Знаете Кригера, по кличке Медведь?
— Не знаю ни Кригера, ни Медведя.
— Медведь и Кригер — одно и то же лицо. Ну?
Карлсон выразительно пожал плечами.
— Не понимаю, чего вы хотите.
— Не валяй дурака! — Один из них подскочил к нему. Белые пятаки на обмороженных щеках зацвели, как нарциссы. — Не понимаешь, чего от тебя хотят? Ничего, ты у нас образумишься. Вот твое дело! — И Пятак ткнул пальцем в папку на столе. — Раз ты попал сюда, не надейся, что сухим из воды выйдешь.
Первый допрос начался в восемь вечера.
Со скрипом двигались шестеренки часовых механизмов, филином ухали минуты, часы тягуче раскручивались и набрякали годичными кольцами на стволах деревьев, а в три часа ночи Карлсона опять вызвали.
У стены возле пожарного ящика с песком стоял кожаный диван. На диване лежал какой-то крупный чин полиции, временами жизнерадостно всхрапывая. У дверей дежурил солдат с винтовкой. Городовой, конвоир Карлсона, остановился у стола, и в надраенном самоваре отразилось его простоватое лицо.
— Подойдите поближе, — вежливо попросил Пятак.
Михеев пружинистой походкой расхаживал по кабинету. Карлсон стоял к нему спиной. Неожиданно Михеев подступил к нему. В руках нагайка.
Чапиги плуга ложатся в ладони землепашца, молоток привыкает к рукам металлиста, ручка срастается с пальцами учителя, нагайка сдружилась с ладонью Михеева.
Прирученной гадюкой извивалась в руках Михеева, то опуская, то вскидывая треугольную свою голову, то выплевывая, то вбирая в себя ядовитое жало.
Ну, малыш, казалось бы, спрашивал Михеев, каково теперь? Может, хватит, а? Галилей отказался от своих теорий, как только ему показали камеру пыток. Мы тоже соблюдаем последовательность. Сначала показываем, даем возможность образумиться. Ну?
Это было неприятно. Дожидаться удара, сознавать свою беспомощность. Момент опасный, размякает воля, возьми же себя в руки, не выказывай ничего, уйди