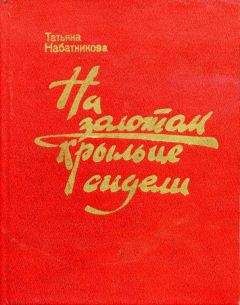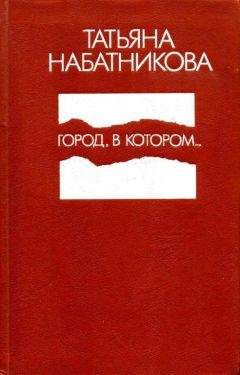— Я уж к ней и ходила. Разговаривала... — продолжала мать. — У, н-наглая такая, что... так бы и вцепиться ей в глаза...
Тетя Вера опасливо оглядывалась, чтобы Надя не слушала такие разговоры.
Я про себя выбрала Волошину: те два пушистых завитка на шее, когда она танцевала с отцом, подтверждали ее правоту.
— Ну все, я ухожу, — громко объявила Надя.
Тут через перелаз огорода заглянула моя подружка Люба и позвала:
— Ева-а! Ева-а! — она выговаривала это имя с аппетитом и удивлением, как ела бы невиданный фрукт из невиданной страны.
На Любе было неношеное, жестко топорщившееся платье из красного в белый цветочек ситца и штапельная косынка на голове.
— Иди, — отпустила меня тетя Вера.
— Ну сейчас, прям! — возразила мать. — А садить картошку кто будет? Да и нечего ей там делать, она еще никого не знает.
— Иди, иди, Евдокия, отправляйся! — строго скомандовала тетя Вера, тоном обозначая свое главенство над матерью как над своей младшей сестрой, и я сорвалась, побежала, наскоро умылась в тазу во дворе, так и не справившись с земляной каймой под ногтями из страха опоздать на фестиваль; ох уж эта мать, но ведь ее жалко, а отец — но что поделаешь, у Волошиной на шее эти завитушки, а тетя Вера добрая, конечно: ей с дядей Васей хорошо, но как же все-таки быть с матерью? И опять мне потом попало от нее: я поменялась с Любой косынками — мою крепдешиновую голубую на ее штапельную, и мать велела забрать назад, но тетя Вера заступилась: «А брось ты, ну какая тебе разница, нехай девчонки дружат».
На фестиваль мы с Любой не опоздали.
В школьном дворе было шумное гулянье, и тут меня выловила из толпы Надя и потащила в свой кружок.
— Смотри, — похвасталась она большому парню, выставляя меня перед собой. — Моя сестренка. Зовут — Ева. Перешла в третий класс.
И парень этот одобрительно кивнул, а Надя потрясенно на него смотрела, и углы ее лица сгладились, она уже не казалась мне такой некрасивой. С волейбольной площадки долетел неверно поданный мяч — и парень этот точно и красиво отбил его назад. Стало ясно, что он тут главнее всех, и имя его оказалось величательное: Олег Верховой. И лучше бы Надя держалась от него отдельно: она все портила. Тут же мне стало жаль сестру и стыдно за мою предательскую мысль — безысходность такая же, как с матерью и Волошиной, а мне хотелось всех примирить и все распутать: из подражания остальным людям — они ходили вокруг, и на их лицах была такая безмятежность, как будто у них-то все просто и удобно для жизни.
— Пошли, Верховой, смотреть волейбол! — предложила Надя и покраснела от усилия и ожидания.
— Надя, я бы с удовольствием, — растерялся Верховой, и я потянула Надю за руку поскорее уйти куда-нибудь от стыда. — Но меня ребята ждут в бильярд.
Надя удержала меня и сказала:
— Ну ладно, пойду тогда смотреть ваш бильярд.
— Ты понимаешь... Можно, конечно. Но там одни парни, — мялся Верховой. — Тебе будет неудобно.
— Ну и шут с вами. Пойдем, Ева, танцевать.
Удивительно: я понимала намного больше, чем могла понять. Мы стали протискиваться сквозь толпу на музыку: играли на баяне «Хороши весной в саду цветочки». Старшеклассницы парами вышаркивали по земле быстрый фокстрот, а народ стоял кружком и глядел на веселье. Надя, через силу улыбаясь, чтобы не заметно было ее огорчения, схватила какую-то подругу и пошла с ней в круг.
Я пролезла между юбками и вдруг в середине круга увидела: фокстрот играет мальчик. Он сидел на табуретке и прятал в баяне лицо, от застенчивости делая вид, что играет как бы вовсе и не он. Пальцы порхали по пуговкам — и выходила музыка.
Фокстрот кончился, и мальчик, светлоголовый, в серой школьной форме, стал играть ту самую мелодию, под которую когда-то танцевал мой отец с Волошиной. Я еще не видела детей, у которых из рук выходила бы живая музыка.
Музыка — это таинственное вещество, которое одно могло проникать до того места души, откуда происходили непонятные, ничем не объяснимые слезы.
Я слабею, как будто мне подрезали жилы, и расслабленно текут и текут мои слезы: пробился источник и омывает меня изнутри. Но я все-таки не заплакала.
Акации окружали школьный двор, тополя тянулись в вышину, я проследила до самого апофеоза, а там, за их верхушками, всходили купола облаков; они клубились по светоточивой сини и торжественным хороводом смыкались вокруг нас — у меня закружилась голова, но мне страшно было возвращать взгляд вниз, на мальчика — из-за опасности неизвестной силы. Я оглянулась вокруг для помощи или для объяснения, что же происходит, отчего мне так тревожно. Но никто ничего не опасался, у всех были одинаково бестревожные лица, как будто все очень обыкновенно и — ничего нового на земле. От этого я немного успокоилась и обернулась к мальчику.
Видно было, что руки у него мягкие и влажные. Расплющенные подушечки пальцев загибались из-под ногтей вверх, как обогнавший морскую волну гребень. От баяна, наверное, подумала я и уже не боялась смотреть.
Когда, наконец, через три года я взяла в темноте кино его руку с зажатым в кулаке билетом, он послушно подчинился, и я, успокаивая сердцебиение после первой решимости, замерла на минуту, а потом осторожно вытянула билет и скомкала в шарик, — его покорная рука, голая, мягкая, осталась в моей ладони, невольная, как больная птичка.
Тут протиснулась в круг Люба. На мальчика с баяном она не обратила никакого внимания.
— Ты где, я тебя все ищу, ищу.
— Ты его знаешь? — шепотом спросила я, чтобы не перебивать музыку.
Люба оглянулась на него и скучно ответила:
— А он из нашего класса, Толька Вителин. А что?
Это была ошеломительная удача жизни. Мы будем в одном классе. Я смогу даже говорить с ним, как Надя с Верховым — без всякой справедливости, по случайному праву одноклассницы.
— Почему ты мне про него сразу не сказала?
— Когда сразу? — не поняла Люба.
— Сразу, как мы познакомились, позавчера.
— Поду-умаешь!
Тут Толя перестал играть, поставил баян на табуретку, и круг дал ему дорогу, когда он уходил. У него была застенчивая походка, и лицо то и дело заливалось краской — он его прятал, зарываясь подбородком в грудь. У меня шумело в голове от изобилия всего, что мне являлось. Я не могла выделить главное. Мне хотелось заткнуть уши, закрыть глаза, ничего больше не чувствовать и подождать, пока уляжется то, что уже попало в меня. Но мир не оставлял меня в тишине ни на минуту, и я не успевала разобраться в нем.
— Поду-умаешь, ну и что, что он играет на баяне. У нас и в других классах еще есть мальчишки, которые играют. Ты как будто никогда не видела, как играют. Не видела, да?
Любе понравилось превосходство надо мной.
— Ну, видела, — неохотно соврала я и спрятала свое удивление подальше от ее разорительного равнодушия.
* * *
Сельсовет дал моим родителям квартиру: саманный дом на краю села. Мы сразу же пошли его смотреть. В нем давно никто не жил, мать ревниво пробовала рукой переплеты рам на окнах, озиралась, прикидывая высоту потолков и место для стола. Отец равнодушно прохаживался туда и сюда, чтобы занять время.
— Господи, дай нам бог здесь счастья! — с отчаянной силой сказала мать, стиснув руки.
Ее стало жалко. В доме было сыро и темно, несмотря на лето, и я вышла наружу. В бурьяне у крыльца, облитые светом, цвели ноготки. Я зажмурилась от солнца — так убедительно оно светило, что несчастья казались неправдоподобными. Я присела к ноготкам и стала выпалывать бурьян.
Вышел на крыльцо отец, крикнул матери, что посмотрит огород. Не заметив меня в траве после сумрака дома, он негромко заключил, отвечая за бога на молитву матери:
— Ни хрена тебе счастья не будет.
И засвистел, но тут заметил — в соседнем дворе за штакетником — женщина кормила уток, забыл про огород, который хотел посмотреть, воровато окликнул: «Варь, а Варь!» — и пошел к штакетнику, осмотрительно оглянувшись на дверь.
Я смотрела, как он крадется, и от сильного тока крови вдруг ясно догадалась, что им обоим уже не видать счастья — и ему, и матери: оно все неизбежно перешло ко мне, я услышала его в себе в виде нарастающего гула — приближения моего прекрасного будущего.
С этой поры я смотрела на своих родителей, как бы оглядываясь назад, в никому не нужное прошлое. Несчастья, в которых они горевали, должны были постареть и умереть вместе с ними, как пережитки капитализма, о которых говорило радио. Впереди их ничего не ждало, меня — все.
На другой день мать принялась белить, мыть и обставлять дом, надеясь на перемену жизни. Я помогала. Я вырезала белые бумажные кружева для кухонных полок ради общей красоты и надежды, хотя сама уже знала, что никакие кружева матери не помогут, что все счастье — мое, но не могла же я сказать это ей.
Потом, спустя годы, когда я была уже давно взрослой женщиной, мама как-то сказала мне, что в детстве она тоже предчувствовала свое необыкновенное прекрасное будущее и жила в ожидании его лет до двадцати, пока не родилась я.