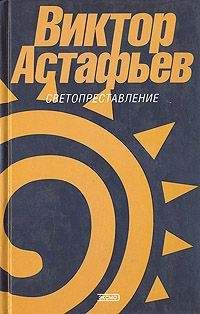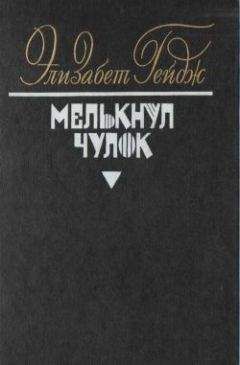Есть над чем подумать!
С одной стороны — письмо в редакцию, а с другой — Павел Замухин, тот самый Паша, который скрывал на фронте обнаружившуюся желудочную болезнь, чтобы его не отослали в тыл. Тот самый Паша, с которым мне довелось тянуть телефонную линию через Днепр, а потом мерзнуть и голодовать на плацдарме. Собственно, нашему брату голод был не так страшен. Мы резали куски от убитого коня, варили их в укромном местечке и жевали без соли. И рыбой глушеной не брезговали, ее там полно было. Помнится, не выдержав, больной Паша поел конины и потом корчился в грязной щели, кусая до крови губы.
Меня на этом плацдарме ранило, а Паша умудрился дотянуть свою линию до Берлина.
Летом я его встретил на вокзале в областном городе. В числе других добровольцев он ехал в наш район работать председателем колхоза. Паша торопился, и поговорить нам не удалось. Мы только условились как-нибудь встретиться в колхозе.
И вот встреча наша должна состояться.
Пожалуй, надо пойти к редактору и отказаться от поездки в колхоз. Не с жалобой же в кармане должны встретиться друзья-фронтовики! Но я уже успел немножко изучить нашего редактора. Узнав о моей старой дружбе с Замухиным, он непременно пошлет меня с этим письмом, чтобы проверить «качество» молодого газетчика на таком щекотливом деле…
Павел встретил меня просто. Лишь долго не выпускал он мою руку из своей и все тянул куда-то, пытаясь усадить меня рядом с собой на один стул. Он забрасывал меня вопросами, не дожидаясь ответа, рассказывал сам. Потом спохватился:
— Tы чего помалкиваешь? Я болтаю, болтаю…
— Я ведь к тебе по делу, Павел.
— К дьяволу дела! — сказал oн и сунул какие-то бумаги в стол. — У меня ведь, братуха, сегодня сплошные радости: семья приехала, ты нагрянул! Пойдем мы сейчас пообедаем и даже выпьем по такому случаю. Ты чего глаза вытаращил? А-а, старую историю вспомнил, насчет моего желудка беспокоишься? Курсак, братуха, теперь в порядке. Один профессор все мои язвы аннулировал. Так что теперь не рассчитывай на две порции! — Павел рассмеялся: — А много же ты за меня водки выпил, ой, много! Посчитай: весь сорок второй да по октябрь сорок третьего. Да ладно уж, не буду взыскивать, пользуйся моей добротой…
Павел балагурил, смеялся. Я старался отвечать на его искреннюю радость, как умел, но ничего у меня не получалось. Обедать с Павлом я отказался.
— Почему? — удивился Павел.
Я сказал ему прямо обо всем, сохранив, как полагается, фамилию автора письма в тайне.
Павел сидел несколько минуг, растерянно глядя на меня. Радостное выражение исчезло с его лица, у губ легли складки обиды, брови насупились, и он сделался еще бледней. Неожиданно он вскочил и грохнул по столу. Мелкой рыбешкой брызнули в разные стороны карандаши, ручки, скрепки.
— Серега! Кр-ровосос! Его работа! — закричал Павел и, схватившись по старой привычке за переносицу, опустился на место. — Сил больше нет, братуха! Убью я его! Честное слово, угроблю! На душу грех возьму! Пусть судят!
Вот как может измениться человек! Где тот мягкосердечный, спокойный Павел Замухин, которого я знал прежде?
— Ведь он двух председателей отсюда выжил, — жаловался мне Павел, — семерых кладовщиков — итого, девять! Ты понял, десятерых живьем съел?! Теперь меня доедает, за каждым шагом следит, гнида! Ну, подметил бы какую ошибку, пришел бы, так нет, он чик-чирик жалобитку. Вот они, полюбуйся. Это мне начальству ответ давать… — Павел выбросил из стола ворох бумаг с сопроводительными бланками. — От такой работы меня скоро родимчик хватит! — Павел надел шапку, снял полушубок с вешалки и, придавив подбородком шарф, с усталой раздраженностью закончил: — И сунуло меня выписать эту пшеницу!
— Ты действительно?..
Павел, уже одетый, встал возле стола, забарабанил пальцами по стеклу.
— Да, братуха. Понимаешь, нельзя мне было после операции черный хлеб есть. Я сначала все в город заказывал, а потом с деньгами заминка вышла, семью перевозить надо было, ну, правленцы знают о моей хворобе, уговорили, постановили. Раздобрились они на радостях. Первый раз за последние годы хороший урожай взяли. И я тоже уши развесил. Теперь мне этот центнер пшеницы что бревно в глазу. Опять же, не согласись я взять эту несчастную пшеницу, он меня на другом деле подсидел бы. Так обедать не пойдешь? Правильно делаешь. А то и на тебя жалобу нагвоздит.
* * *
Лишь к вечеру я закончил обход изб. Время я потратил почти без пользы. Колхозники встречали меня приветливо, но, как только заходила речь о Ковырзине, они отвечали на вопросы неохотно, а то и вовсе отмалчивались.
— Да что, на самом деле, боитесь Ковырзина, что ли? — не выдержав, спросил я у доярок на молочной ферме.
Доярки долго переминались, глядели мимо меня. Наконец пожилая женщина в шахтерских калошах поднялась и, развязывая тесемки халата, призналась:
— Боимся, скрывать нечего. Почитай, все мы не одинова бывали в суду свидетелями или ответчиками, а без суда сколько лиха перетерпели от него, супостата! Tы послушаешь нас да и отбудешь, а он вынюхает, что мы тебе жалобились. — Доярка повесила халат на деревянный крюк и подсела к столу, где женщина-бригадир заполняла табель и внимательно прислушивалась к нашему разговору. — Он ведь, Серега-то, себе на уме, — продолжала разговор пожилая доярка. — Молчит до поры до времени, а потом ушибет, да так, что и свету не взвидишь. Вот со мной был случай. Приехал ко мне сын из армии в кратковременный отпуск. Пальнул из орудья на ученьях как следует, и ему, стало быть, отпуску десять дней вышло — как награжденье. А дома-то прихворнул от переутомленья сил. Гулянки, девчата, то, се. Ну я к фершалу. Христом Богом вымолила у него справку. — Доярка рассмеялась, и все вокруг тоже заулыбались. — Словом, «поправили» и отправили артиллериста. Да вот возьми и отчисти я Серегу на собрании. И закрутилась машина: Серега в часть письмо насчет того, что сын мой болел из-за чрезмерного распития. В райздрав жалобу. Ну, фершалу выговор, сына на губахту…
В разговор втянулись и другие доярки. Сначала они все оглядывались на двери и углы, точно боялись, что там кто-то сидит и подслушивает, а потом перестали остерегаться.
И услышал я много любопытного. Все чаще и чаще в разговорах мелькало слово «колдун». Оказывается, за Ковырзиным давно укоренилось это прозвище, и он его, как я понял, не опровергал. По деревне шли слухи о том, что Серега может посадить килу, сглазить малолетнего ребенка, скотину или жениха от невесты отвадить. Намажет скобу в доме невесты каким-то зельем — и баста, жених к другой переметнется. У Сереги и отец колдун был. Еще в давние времена Серегин отец одну свадьбу испортил. Положил на дорогу метлу, плюнул три раза, шепнул что-то, и готово дело — доехал свадебный поезд до метлы, пляшут кони, а с места ни шагу!
— Это из-за того, что приглашеньем обошли, — пояснила все та же словоохотливая женщина.
Молодые доярки взвизгивали от смеха, слушая эту небывальщину, и начисто отрицали колдовство.
Завязался спор. В конце концов все пришли к выводу, что Серегу надо бы прогнать из колхоза. А как это сделать? Минимум трудодней Серега вырабатывает. Осенью на рынке в артельном ларьке овощами торгует, а то инструменты кузнечные в пользование даст, чтобы ему соточки вписали. Пробовали не брать у него инструмент, так он на птичник к Лукерье приладился. Спит там, похрапывает, а Лукерья работает и записывает на двоих трудодни. Так вот он и наскребает минимум. Благо минимум этот одинаков для такого битюга, как Серега, и для старухи.
Конечно, Серега не всегда вредничал. Был в колхозе председатель Куркин, снюхался с Ковырзиным, поставил его кладовщиком — и притих Серега. Да Куркину-то по шапке дали и Сереге тоже. Даже из колхоза его турнули. Но Серега обжаловал постановление общего собрания перед районным начальством. Оттуда бумага с печатями пришла: «Нет никакого основания исключать товарища Ковырзина».
После того еще больше озлобился на односельчан Серега. Если, к примеру, его сейчас снова кладовщиком поставить или депутатом в поссовет выбрать, он успокоится. Очень охота быть Сереге депутатом, чтобы на интеллигента походить, страсть высказываться любит. Сыплет, как по газете, заслушаешься. В конце каждой речи Серега зычно каркает: «Мир и пролетарьят восторжествуют во всем мире!»
Но депутатом Серегу все равно не выбирают…
* * *
На заседании правления, где решались важные артельные вопросы, Ковырзина тоже не обошли разговором. Он был словно чирей на холке, на которую, как ни остерегайся, все равно сядешь.
Один правленец разгорячился и заявил:
— Отлуплю я его под пьяную руку! Честное слово! Ведь жилы из всех вытянул!
— Ну и попадешь в тюрьму, — сказал пожилой колхозник.
Утром я встретился с Ковырзиным в том самом доме, куда меня уже не манило после первого разговора с хозяином. Но служба есть служба!