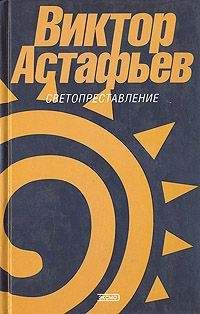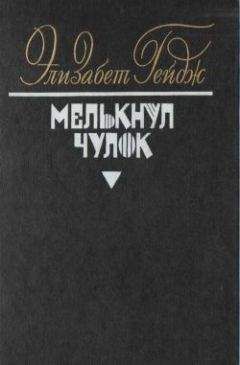Один правленец разгорячился и заявил:
— Отлуплю я его под пьяную руку! Честное слово! Ведь жилы из всех вытянул!
— Ну и попадешь в тюрьму, — сказал пожилой колхозник.
Утром я встретился с Ковырзиным в том самом доме, куда меня уже не манило после первого разговора с хозяином. Но служба есть служба!
Ковырзин приветствовал меня с подчеркнутой строгостью и вежливостью. Теперь я был для него не случайный встречный, а человек, уполномоченный проверять жалобы. Я попросил Ковырзина показать мне ответы на его жалобы.
— Все? — поинтересовался он.
— Давайте все.
Он подал мне объемистую папку с бумагами. Чего тут только не было: вежливые ответы на солидных бланках из Верховного Совета лежали сверху, а под ними пространные ответы обкомовских и райкомовских комиссий. Еще ниже — торопливые и не всегда ясные ответы из газет. Дальше — бумаги из прокуратуры, судов, сельсоветов.
Заглядывая через мое плечо, обладатель этих «сокровищ» бросал короткие комментарии:
— Это с Москвы! Это из области насчет председателя Анкудинова. Знали его? Спекся милый. Подловил я его на одном дельце. А это вот, — голос Ковырзина как-то сладко задрожал, и он даже перестал сопеть мне в ухо, — это письмо самим всесоюзным старостой, покойничком Михайлой Ивановичем подписано.
Даже опытному газетчику трудно говорить с такими людьми, как Ковырзин, а мне оказалось это вовсе не по силам. Я сорвался на первых словах:
— Это же черт знает что! — тряхнул я бумагами: — Это ж… Вы ж людям жизнь отравляете! Работать надо, а не писать!.
Ковырзин властно высвободил из моей руки бумаги, разгладил их ладонью и, завязывая папку, спокойно заявил:
— Молоды учить меня. Молоды! А писать я имею право по Конституции страны социализма, потому как должен кто-то следить за порядком. Неужто вам с Замухиным это дело доверить, а? — Он хитровато и многозначительно прищурился: — Вот, к примеру, насчет пшеницы. Равноправье? Равпоправье! Так почему я, честный труженик сельского хозяйства, организатор Советской власти, активист коллективизации, селькор с тридцатого года, должен жрать аржаницу, а какой-то выскочка из интеллигентов — беленький хлебец? Что записано в Конституции, нашем золотом законе?..
— Слушай, — потеряв всякое терпение, оборвал я ораторствующего собеседника. — Да понимаешь ли ты, что такое наша Конституция? — Я сделал ударение на слове «наша», но Ковырзин не уловил моей иронии. — Не будь этой Конституции, так односельчане давно бы тебя распотрошили.
Ковырзин ошарашенно уставился на меня:
— Да ты что, запугивать?! Ты кто, представитель советской печати или кто?! А-а, вон что! Председатель-то твой старинный дружок. Так, так, так! Я вас еще колупну, колупну-у. Честного труженика, организатора Советской власти под ноготь… Я-а вас…
* * *
Совсем недавно я встретил Ковырзина еще раз в несколько необычном месте.
Моясь в городской бане, я заметил, как из парилки, точно ошпаренные, выскакивали люди. Они плевались, кого-то нещадно кляли. Я спросил у парня с татуировкой на груди:
— Чего шумим?
— Да залез какой-то толстомясый на полок и газует пар, дышать нечем. Всех выжил, один парится.
Я уже одевался, когда из парилки появился человек. Весь он был облеплен темными листьями и не совсем ладно прикрывался исхлестанным веником. С трудом достигнув скамейки, он плюхнулся на нее.
Это был Ковырзин.
— Дошел! — покачал головой парень с наколкой на груди. — Вот она, жадность-то…
Глаза Ковырзина были закрыты, грудь тяжело вздымалась. Казалось, он уже заснул. Но спустя несколько секунд он подал слабый голос:
— Вот ты, мил человек, шумишь, а почему шумишь? Я, может, имею законное право попариться всласть раз в год!..
— Не городи ерунду! — послышались отовсюду разные голоса.
— Как это ерунду? — рассердился Ковырзин и даже попытался приподняться на скамейке, но руки его подломились, и он опять сник. — Чтобы нашу баню истопить, надо кубометру дров спалить, да ведер пятнадцать из-под угору воды принести, да вовремя скутать баню, да плескать на каменку. И все это делать старухе. А старуха-то одна и хлипкая сделалась, плеснет разок и лежит на пороге, голову наружу. Раньше на каменку дочка сдавала, а потом из возрасту вышла, нынче здесь робит следователем. Я вот в гости к ней приеду — и в баньку. Благодать! За полтора целковых хлещись, сколь душа желает, и воды без нормы…
На следующий день я позвонил в колхоз и услышал ликующий голос Павла:
— Выгнали, выгнали мы Серегу!
— Каким образом?
— А самым обыкновенным. Только получил народ газеты с постановлением насчет Устава артели и сразу ко мнe. «Собирай собрание, будем гнать единоличников из колхоза. Первого Серегу выдавим, как чирей!» Я говорю: «Дорогие товарищи, больно вы уж круто, потолковать бы еще с ним». — «Никаких толкований — гнать!» Ну и все: «спекся, мил человек».
Вон оно что! То-то я заметил, что за последнее время тематика писем Ковырзина заметно расширилась. Он все чаще и чаще пишет на городские темы, не оставляя пока в покое и деревенских. Три разоблачительных заметки он написал о завхозе «Горпищекомбината».
Утратил Ковырзин надежду выбиться «в люди» в деревне, пробует это сделать в городе.
1956