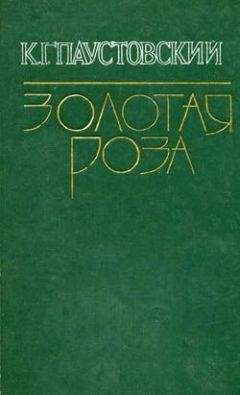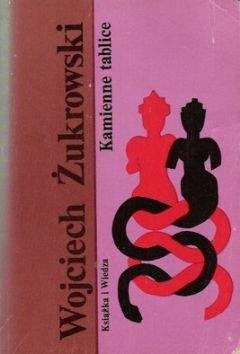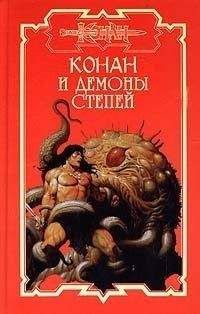— Пошли на Красную горку.
— А что там?..
— На-поди, свет ненаглядный! — с веселой насмешливостью изумилась сестра. — Праздник же сегодня. Царя-батюшку ноне короновали… Пойдем, Ваня. Народу там будет сегодня, веселье…
— Нет, — покачал головой Иван. — Иди, Оля, я потом, если надумаю…
Красная горка — любимое место Ивана. Какие там чудесные сосны, высокие и прямые, с коричневато-красными стволами, а сколько солнца… Но он редко бывает на Красной горке в дни праздничного многолюдья, избегает шумных компаний. Куда больше по душе ему быть один на один с этими соснами, созерцать мир в спокойном одиночестве, без устали бродить по лесным тропинкам, где что ни шаг, то новые картины и краски…
Краски, краски! Это что-то недосягаемое, столь высокое и непостижимое, что и помыслить об этом страшно. Но краски живут в его воображении, краски преследуют его всюду, даже во сне, и отделаться от них нет никакой возможности…
И взяться за них духу не хватает, смелости. Да и где их взять, краски?.. Боже мой, что же будет с ним завтра, послезавтра, как ему жить дальше, Ивану Шишкину!..
Мелькнуло нарядное Ольгино платье в переулке, грустным взглядом проводил ее Иван. Сестру он любил за веселый, открытый характер, а еще за то, что Ольга, как никто другой в их семье, относилась к нему сердечно, с добрым пониманием и готова была в любую минуту прийти ему на помощь.
Хромоногий кучер Харлампий, прыгая на скрипучей новой деревяшке, вывел пару выездных коней. Вышел отец, строгий, парадно одетый, глянул на Ивана и ничего не сказал, отвернулся. Харлампий пытался захомутать коня, конь пятился и высоко задирал голову. «Ну, ты, ерепенься!» — замахивался на него Харлампий. Снизу, из раскрытого окна кухни, тянуло сдобным запахом праздничных пирогов.
А над городом, над рекою, над лугами, где паслись разноцветные кони, над домами и деревьями, что тянулись к небу, над всем миром, казалось, плыл и поднимался все выше и выше могучий колокольный звон. И среди этого буйного, торжественного перезвона Иван легко улавливал и отличал густой, басовитый «голос» дедушкиного колокола…
* * *
Вечером братья поссорились. Да и не было, по правде сказать, ссоры, а просто Иван захлопнул дверь перед носом старшего брата — надоели бесконечные придирки, поучения, разговоры о его, Ивановом, безделье. Николай подергал с той стороны дверь, чертыхнулся и отошел. Слышно было, как спускается по лестнице. Передумал, вернулся и еще раз торкнулся в дверь.
— Открой, что ли! Поговорить надо…
Иван промолчал.
— Ладно, — пригрозил Николай, — больше ноги моей здесь не будет. Живи как хочешь. Слова не скажу. Переводи бумагу, марай… Кому нужна твоя мазня!.. Скажи, кому?
Иван молчит. Хоть и кипит в душе обида. Распахнуть бы дверь и крикнуть: ну что, что вам надо от меня? Разве не видите, я и сам не знаю, как быть, мучаюсь — и ничего не знаю. Одно знаю: не бросить мне этого дела… ни за что не бросить. Сидит Иван нахохлившись, зубы стиснул. Надоело все, так надоело, впору бежать из дома. А куда бежать? Наверное, прав Николай: «По миру пойдешь со своими рисунками». Может, и по миру… Но жить дальше так нельзя, думает Иван, невозможно.
Потом из коридора доносится тихий, укоряюще-мягкий голос матери:
— Господи, хоть бы в праздник-то постыдились, грех-то какой… И чего мир вас не берет? Братья ведь.
Мать одного хочет — мира и согласия в дому, чтобы не перечили друг другу, угождали.
— Я не угодник, хоть и Николай, — раздраженно говорит брат. — А Иван не гость в нашем дому. Девятнадцатый год парню, а он детскими картинками занимается.
— Опомнись, — испуганно шепчет мать, — не гневи бога.
— Бог справедлив, — кипит Николай, — он должен видеть, кто прав, а кто не прав. И хватит! Больше я ни слова не скажу, живите как знаете. Но и работать за него тоже не буду, нет на то моего согласия… Все!..
Шаги его быстро удаляются, хлопает наружная дверь, жалобно и протяжно дребезжат окна. «Господи, какой стыд-то! — говорит мать и крестится, наверное, призывая в свидетели всех святых угодников. А через минуту зовет: — Иван… Ваня. Слышишь?..»
Иван молчит. Он готов разреветься от обиды и глупого безвыходного своего положения. Ходит по комнате быстрыми и злыми шагами, меряет вдоль и поперек, и куда бы ни шагнул — всюду натыкается на стену. Нет выхода, нет выхода, думает с горечью и обидой. И снова мечется, не может найти себе места. Хотя временами внутренний голос, будто и не его, Ивана, а чей-то чужой, посторонний, говорит ему: успокойся, подумай хорошо и все взвесь как следует. Так ли уж безвыходно твое положение? Ты же не ребенок, слава богу, восемнадцать стукнуло, пора и за ум браться. А что ум — ум его занят одним: рисованием. Рисовать он готов день и ночь. Горы бумаги переводит. Вот они, вот их сколько, его рисунков!.. Вид с Красной горки… а это вид на Красную горку. Развалины Чортова городища, сосны у старого перевоза… Еще сосны. Опять городище, полуразрушенная башня. Сосны. Снова сосны. Одно и то же, одно и то же. Сколько можно? Иван резко отодвигает рисунки, словно отмахивается от чего-то ненужного, нежелательного, делающего его жизнь тяжкой, невыносимой. У него нет зла на брата. Николай по-своему прав: нельзя всю жизнь быть нахлебником. Но что делать, если не хватает воли отказаться от всего этого, бросить рисование и отдаться домашним делам? Пробовал Иван, да ничего из этого не вышло. Отец в отчаянии от его непрактичности. Иван не способен выполнить самое простое поручение по хозяйству, потому что голова его забита одним — рисованием.
Надеялся Иван Васильевич, что младший сын окончит гимназию, может, и дальше пойдет учиться, но два года назад Иван оставил учебу, вернулся из Казани домой. Отец пытался переубедить сына, однако Иван твердил одно: там не учеба, а муштра. И возвращаться, по всему видать, не собирался. Отец сказал: «Ладно, коли не хочешь — неволить не станем. Только потом пожалеешь».
Отцу было горько и неприятно: он мечтал о том, что сыновья получат хорошее образование, и всячески этому способствовал, но те не оправдали его надежд — не одолели и гимназического курса.
— И чем же ты решил заняться?
— Не знаю, — ответил Иван.
— Как же ты бросил гимназию, — удивился отец, — и не знаешь, чем будешь заниматься дальше?..
Иван пожал плечами.
Больше отец не возвращался к этому разговору. Постепенно начал приспосабливать Ивана к делу; от поручений отцовских Иван не отлынивал, напротив, брался за них горячо и охотно. Как-то осенью он даже сопровождал баржу с зерном до Рыбинска. Однако хозяин из него, по всем признакам, не получался: на каждом шагу его обсчитывали, обманывали. Зато после поездки он возвращался полон живых и ярких впечатлений, с кучей новых рисунков.
В конце концов отец махнул рукой, отступился, оставил его в покое. Иван принял это как должное и все свое время отдавал теперь любимому занятию — рисовал. Целыми днями он пропадал то на развалинах Чортова городища, то уходил в сосновые леса, к Святому ключу, бродил без устали. И был счастлив. А дома запирался в своей комнате, опять рисовал, рисовал или читал. Комната была сплошь увешана рисунками — и его собственными, и рисунками друзей по Казанской гимназии, с которыми прожил он душа в душу четыре года. Вот уж кто его понимал — так это Саша Гине, или попросту Гиня, да еще Авдеев, худой, флегматичный парень, готовый ради дружбы жизнь отдать. Все трое больше всего на свете любили рисовать, оттого и сошлись близко, подружились. Особенно любили рисовать наперегонки — тут Авдеев преуспевал. Зато Гиня мог двумя-тремя штрихами передать на бумаге сходство. Учитель рисования Петровичев, бывало, глянет на рисунок Гине или Шишкина, прищурится, слегка наклонив голову, почмокает многозначительно губами и скажет: «Ничего, братец. Только карандаш острее затачивай». Они от души смеялись над этим незадачливым, вечно пьяным учителем, над его неуклюжей попыткой покровительствовать, над его неизменным советом — карандаш острее затачивать.
Что ж, и на том спасибо, подумал Иван, и на том спасибо, что заметил учитель их способности и пристрастия, заметил и выделил — это не так уж и мало. Всякая наука с любви начинается, говорил учитель, а искусство тем более… Где они сейчас, его друзья, Авдеев и Гиня, чем занимаются? И как живет-поживает славный учитель Петровичев — «Острее карандаш затачивай»? Как бы хотел Иван встретиться с ними, поговорить, побродить в лесу, забраться на Красную горку и показать, какие с той высоты открываются дали!.. И сосны, такие огромные там сосны, с золотисто-красными стволами, гудящими на ветру. Особенно хороши они под закатным солнцем, окрашенные в мягкие, почти неуловимые тона. Невозможно как чудно! И карандаш — как бы ты его ни затачивал! — становится непослушным, бессильным передать на бумаге самую малость этой загадочной, непридуманной красоты.